Знаем ли мы нашу старую добрую российскую армию?
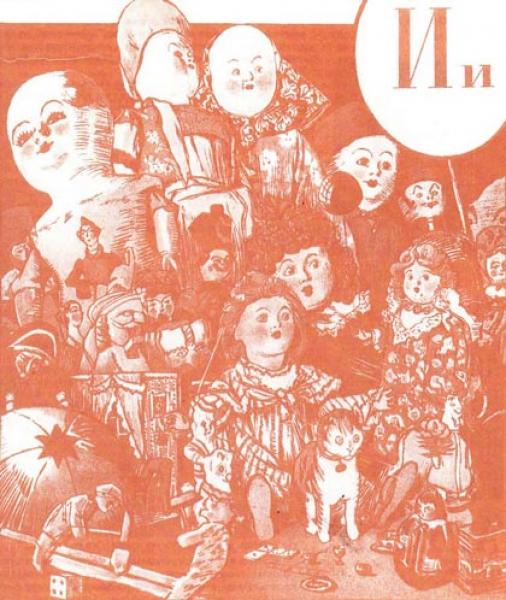
.jpg)
Сердце человека вообще принадлежит к той стране и той нации, чью армию он считает своей...
И. Ильин
Да была ли где и возможна ли вообще такая армия? Господи, да каких бы граждан она воспитывала, «поставляла» стране! – так и хочется сказать, не правда ли, по прочтении этих эпиграфных слов знаменитого русского обществознатца Ивана Ильина.
А что, если в самом деле была (ну не такая, а в достаточном приближении) армия, и не где-нибудь, а у нас в России? Вот вам и готов образец для всё ещё по-настоящему не начинаемого реформирования наших теперешних Вооружённых Сил. Однако хорошо ли будет, если этот образец не подвергнуть пусть и не образцовому, но, но крайней мере, далёкому от «сиропа» анализу. Предоставим тешиться «сиропом» профессиональным «патриотщикам».
Реформаторам же не пристало сие, – считает историк Коммир КРИЖАНОВСКИЙ, автор предлагаемой вниманию читателей статьи, ведь строительство Вооружённых Сил страны, может, как раз и начинается с демонтажа всяческих мифов. Не легенд – это нечто другое. Одним словом, для нас хорошо сегодня – может быть, как никогда раньше – то, что истинно, объективно.
Неужели никого не настораживает то, что о прежней армии России мы слышим лишь дифирамбы, громкие слова? Где цифры, где факты, где выводы, основанные на анализе, а не на эмоциях?
Углубимся в историю... И сразу заметим, что год 1552-й для России стал переломным, а граница Казанского ханства – той роковой чертой, переступив которую государство начало эпопею завоевательных войн. С этого момента путь страны был предопределён – вниз. Научившись добывать средства к жизни на чужих землях, Россия потеряла способность к саморазвитию. И экстенсивный стиль бытия постепенно овладел и экономикой, и управлением, и образом мыслей.
Всё это не могло не сказаться и на армии. Ниже даны лишь некоторые штрихи к её «физиономии». Их, эти штрихи, впрочем, можно было бы дать в ещё большем количестве, однако для повода к размышлениям, увы, не радостным, и немногого сказанного здесь – достаточно.
Да, вот ещё что... Иные, по прочтении заметок, скажут: что ж ты всё лишь о дурном применительно к армии. Но поймите меня правильно – грустно, помимо прочего, говорить о доблести вопреки... Вопреки вот чему:
«Не хочешь кормить чужую армию, корми свою...»
Вглядитесь в характерные черты российской армии, которые в основном сложились во времена Петра I и мало изменились с тех пор. Придя к власти, первый российский император прежде всего приступил к военной реформе. Армия должна была выполнять не только роль завоевательницы, но и «цепного пса» внутри империи.
Стрельцы для этого не годились. Их жизнь была тесно связана с народной средой – они имели землю, хозяйство, семью, занимались ремеслом и торговлей. Словом, были ненадёжны. И Пётр постепенно заменил войско стрельцов регулярной армией.
.jpg)
Вручение знамени женскому «батальону смерти», уходящему на фронт. Москва, июнь 1917 года.
Ещё Цицерон говаривал – всё лучшее редко. Запустите эту истину в споры и об армиях домашней истории. А то ведь у нас как? – Ах, царская... ух – нынешняя!
Теперь солдат должен был служить до самой смерти. Он, как янычар, знал одну казарму. И если раньше значительная часть войск формировалась из добровольцев, то теперь, по рекрутскому набору, каждые 20 дворов обязаны были поставлять в армию одного солдата в год. Погибал ли солдат, совершал ли побег – на смену ему шёл новобранец. Гигантский рекрутский насос выкачивал из села самых молодых и здоровых мужиков, разбивая семьи и разоряя хозяйства.
Отныне, как бы бездарно ни растрачивали командиры людей, они всегда получали пополнение. Уже в Полтавском сражении российских войск было вдвое больше шведских (типично экстенсивный подход к армии, сохранившийся до наших дней). Из века в век на солдат в России смотрели как на «пушечное мясо», которого всегда в избытке. И даже в последний год мировой войны, когда германская армия терпела одно поражение за другим, её потери были в 2,2 раза меньше наших.
Но вернёмся к Петру-реформатору. До него не только гарнизоны, но и войсковые части формировались на территориальной основе (как и у нас после гражданской войны 1918–1921 годов), и полки состояли из земляков. Однако для властей было гораздо безопаснее, когда людей связывает одна лишь служба, поэтому к концу правления Петра только треть армии (казаки) сохранила старый принцип формирования.
Пётр прикрепил неземляческого состава полки к определённым сёлам, которые обязаны были теперь их кормить. А в «благодарность» за хлеб-соль солдатушки-братушки собирали по дворам подушный налог (введённый Петром). Василий Ключевский пишет: «...шесть месяцев в году сёла и деревни жили в паническом ужасе от вооружённых сборщиков...
Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоёванной России татарские баскаки времён Батыя... никто ни о чём больше не думал, как лишь о том, чтобы взять у крестьянина последнее в подать и тем выслужиться» (1). Одни крестьяне, отдав за бесценок всё – землю, пожитки, бежали куда глаза глядят, другие оставались и вымирали...
Как и во времена Ивана Грозного, численность населения в стране заметно сократилась. Так, лишь в Казанской губернии один пехотный полк недосчитался более половины своих содержателей-крестьян, то есть 13 тысяч ревизских (мужских) душ! А ведь в 10 губерниях таких гарнизонов было 126. Воистину, кроме монголов и вермахта, никто, пожалуй, не принёс народу столько бедствий, сколько его собственная армия...
«Солдатам и собакам вход воспрещён!»
Однако и сами солдаты – верные сыны Отечества – были, скорее, его пасынками. Самые тяжёлые потери, от периода Петра I до времён Николая II – Царя последнего, российская армия несла не в боях, а в казарме. Это была настоящая солдатская морильня.
Некто Вебер, брауншвейгский резидент, в своих записках о России петровского времени пишет: «при дурном устройстве содержания гораздо больше рекрутов гибнет ещё в учебные годы от холода и голода, чем в боях от неприятеля» (2). Например, в мирном (если не считать кавказские экспедиции) 1835 году в армии умер каждый двадцатый.
Парадоксальная ситуация. Ведь от половины до двух третей российского бюджета шло на содержание армии. В среднем за 1886–1895 мирные годы по отношению ко всем остальным (кроме уплаты государства по долгам) эта цифра составила 43%. На просвещение же, например, шло 3,4% (неудивительно, что в начале XX века четверо из пяти россиян были неграмотными).
Куда же текли огромные «военные» деньги? Конечно же не на солдат и не солдату. За счёт различных ухищрений и махинаций средства оседали в карманах командиров полков. Взять хотя бы обмундирование. Шинель шили из негодного сукна, и носил её служивый не один год (как положено), а четыре. Не лучше были и сапоги – укороченные, из обрезков. За счёт «сэкономленного» сырья офицер и получал свою «законную» прибыль.
Только на одних операциях по «усечению» на обмундировании серебряных лацканов командиры полков имели ежегодно до 2500 рублей – суммы по тем временам сказочно большие. Правда, тысяча рублей исправно шла казначею и военному комиссариату. По тому же принципу расходились деньги, выделяемые на иное снаряжение, лошадей и так далее.
Зная о нелёгких условиях казарменной жизни, родные, собрав последнее, присылали солдатам деньги (ежемесячно в полк поступало от 300 до 500 рублей). В лучшем случае казначей возвращал солдатам часть денег, да и то не сразу. А письма зачастую просто сжигались.
Странная вещь – самодержавие. Больше всего оно заботилось об оплоте империи – армии, денег на неё не жалело, народ ради армии раздевало. А по стране во множестве бродили существа, похожие, скорее, не на солдат, а на беглых каторжников. Где украдут (помните сказку о каше из топора?), где отнимут, а где и милостыню попросят, чтобы потом с ротным, отпустившим «на пропитание», деньгами поделиться. Бродили, то и дело натыкаясь на вывески: «Солдатам и собакам вход воспрещён!» (ещё в начале XX века такие объявления можно было увидеть в обеих столицах).
«Создание огромной армии повлекло за собой...»
Это начальные слова из заметок известного публициста середины прошлого столетия Н. Мельгунова. И дальше идёт перечисление, что именно повлекло:
«1. Усиление войск прочими государствами, постоянное, всё более усиливающееся опасение на Западе.
2. Колоссальные по нашим далеко не колоссальным средствам издержки на содержание армии... Войско обратилось у нас в разорительную игрушку, на неё тратится цвет населения и добытые кровью да народным развращением сотни миллионов рублей, чуть ли не половина всех государственных доходов...
3. Обременительные наборы – самое тягостное из последствий развития наших военных сил...
4. Создание никогда ни в одной стране мира не существовавшего множества военно-учебных заведений всякого рода. Молодой человек, выйдя из такой школы, отвыкает от семьи, от родных и безраздельно всей душой принадлежит одному царю. Страшный рычаг, годный на всякое употребление».
И, наконец, ещё один, последний штрих, непарадно обрисовывающий «старую» и «добрую» армию. Штрих, так сказать, обобщающего характера. В одной из докладных записок верховных чиновников того века на самый-самый верх сказано: «Огромнейшая армия есть выражение не силы, а бессилия государства. И для чего эта громадная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, съедает благосостояние государства без пользы и славы для империи».
Не кажется ли вам, уважамый читатель, что это почти точная характеристика нашей армии застойно-посткоммунистической? Да, безусловно, она сейчас нуждается в реформировании. Но когда под предлогом экономии средств и неторопливости в искоренении диких армейских нравов разворачивается кампания по созданию профессиональной армии, я задаюсь одним вопросом. А что, разве с этим созданием армия перестанет быть опасной и дикой? Вряд ли стоит обольщаться.
Ведь армия – дитя общества и его традиций. Если и то и другое не изменить радикально, то напрямую подчинённая президенту России (а кто им будет лет через 5? Бог весть) наёмная армия по приказу свыше двинется... Впрочем, дальше не хочется развивать эту посылку.
Под конец одно скажу: расчеловеченную донельзя советскую армию нужно очеловечить, уплотнив, интеллектуализировать. При этом высшей доблестью будущих профессиональных военных считать не бравость, замешанную на аскетизме во что бы то ни стало (по А. Проханову), а развитое чувство дома, своего, конкретного дома, а через него, с гарантией, и Дома общего.
С его историей, в том числе армейской – адекватной: сильному человеку ложь – во зло. Да, и ещё чувство долга (до чего же девальвировано это слово!). Нет, не перед народом – кроме того, что это абстрактное понятие, оно ещё и до предела затаскано погремушечным употреблением и коммунистическими и посткоммунистическими деятелями. А перед человеком в себе, а через это – перед человеками в других. На глаз и на ухо – просто. Однако это наитруднейше достигаемая простота.
.jpg)
Куда теперь? Автор фото: В. Хабаров
***
1 – В. О. Ключевский. Курс русской истории, т. 4, с. 98-99
2 – Там же, с. 68
Ещё в главе «Семья - нация - страна»:
Из терема – в общественное собрание
«Пробуждение чувствилища к национальному духовному опыту...»
Знаем ли мы нашу старую добрую российскую армию?
