Жизнь и тайнобытие (мысли о феномене тайных обществ, и не только о нём...)
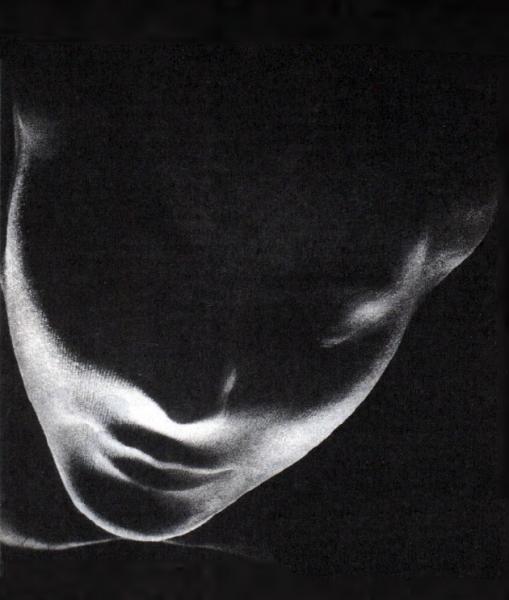
.jpg)
Сигурд Шмидт
Тайна – это не всегда «анти-»
На предложенный мне вопрос, почему на протяжении всей своей истории люди сорганизуются в тайные общества, одним словом не ответить. Он затрагивает самые разные сферы жизни: отнюдь не только политику, как полагают многие в наше политизированное время, но и искусство, и науку, и шире – в целом культуру и общественное сознание. И везде «тайна», вокруг которой кристаллизуются эти малые социумы, выступает в совершенно разных обличьях и смыслах.
Ограничусь только примерами из истории, непосредственно относящимися к тематике моей личной исследовательской работы, её документальной базе. С раннего детства человек стремится для самовыражения иметь нечто своё, отличающееся от общепризнанного, часто тщательно укрываемое от досужего любопытства посторонних. Но это сокровенное должно же где-то проявиться. В небольшой дружеской компании легче и безопаснее заявить о себе, стать явным лидером, или «серым кардиналом».
Очевидно, такое поведение совершенно естественно, и в людях есть, помимо стадного чувства, ещё какое-то стремление выделяться из общечеловеческого массива небольшими группами, более близкими им и удобными в общении.
И «тайна», связывающая здесь людей, – это вовсе не всегда «анти-», даже если доступ чужаков будет строго ограничиваться. Примеры? «Аристократические салоны, артистические кафе, клубы любителей чего-либо в живописи, музыке, литературе, спорте, кулинарии и т. п. Связанные общими интересами, люди зачастую объединялись в «кружки для посвящённых», куда официально публично принимали.
Заседания их часто были закрытыми, лишь для постоянных членов и приглашённых – специалистам хотелось профессионального разговора. Но, если кому-то, пусть даже большинству, не вполне понятны обсуждаемые в тех кругах материи, стоит ли считать непонятное или, вернее сказать, пока непонятное – «тайной»? Тем более, что творимое в узком кругу, избранном творцами, затем нередко ими же предлагалось для широкого ознакомления?
Обратите внимание на объяснение, толкование самого слова «тайна» в словаре русского языка: и то, что скрывается от других, и то, что известно не всем, и то, что ещё не познано. Ведь путь познания – это дорога к неизвестному и открытие его чаще всего происходит втайне!
Рядом со словом «тайна» есть слово «таинство»: таинство любви, таинство религиозное, таинство рождения мысли или образа... Мир так устроен, что не всё совершается открыто. Для того, чтобы идея вызрела – в спорах, обсуждениях, нужна доброжелательная аудитория, готовая квалифицированно и доверительно оценить её достоинства и недостатки. В этом смысле нет принципиальной разницы между замыслами научными, художественными или политическими.
Совершенно нормально, что принципы намечаемых в государстве реформ всегда сначала оттачиваются в небольшом коллективе единомышленников, которому по воле государя дано оказывать определяющее влияние на политику. Так возникла Избранная Рада Ивана Грозного, которую ещё называют «правительство» Адашева. Но ведь официальной властью обладала Боярская дума. Такую же роль в государстве играл и негласный Комитет Александра I. Умные сподвижники самодержцев не дотягивали по своему социальному положению или возрасту до возможности официально занять высшие ступеньки пирамиды власти, но, избранные царями, они получали порой огромные полномочия. В сходной ситуации оказался и Сперанский – «временщик» по статусу, но не по идеям.
Таинство подготовки проектов переустройства страны – чрезвычайно интересный предмет для исследований. Впрочем, профессионально составить «бумагу» – это ещё не всё; надо знать, как дать ей ход. Вот «Записка о древней и новой России» Карамзина. О ней было известно, но она оставалась «тайной»: опубликовать полный текст, как это собирался сделать Пушкин, не разрешили. Неужели убеждённый монархист Карамзин, считавший себя другом царской семьи, мог написать нечто злокозненное?
Конечно, нет. Сейчас нетрудно в этом убедиться по новейшим изданиям. Но, подавая «Записку» Александру I, писатель принял во внимание и ряд психологических моментов и, вероятно, мог предположить, что эффект «запретного плода» окажется действеннее – и для убеждения самого императора, кстати, довольно обидчивого, и для распространения и усвоения обществом заложенных в работу идей. Так и вышло.
А таинство воспитания? Впечатляющий пример – Жуковский: признанный в то время первым поэтом России, он согласился стать наставником наследника престола и старался ему прививать свои идеалы. Было воспитано уважение и к творчеству Пушкина. В дни после дуэли с Дантесом цесаревич, по преданию, подходил к дому на Мойке осведомиться о состоянии здоровья поэта, и уж безусловно известно, что Великая княгиня Елена Павловна – жена брата царя – четырежды присылала спросить, не пригласить ли придворного врача. А ведь русскому языку её учил Жуковский.
Мы как-то забываем, что открытие памятника в Москве в 1880-м, да и вообще знаменитые пушкинские торжества того года не могли бы состояться, если бы московские власти не знали об отношении императора к Пушкину. Александр II, едва приняв скипетр, освободил декабристов, позже помог Шевченко, подписал манифест об упразднении крепостничества... Жуковскому – наставнику-просветителю – необходима была тайна; криком, шумными обличениями общественного «зла» можно было лишь навредить делу.
Всё перечисленное – тайные общества? В чём-то да, но больше, наверное, нет, хотя здесь есть и нечто сокровенное, и организованность. Грань между тайной и таинством оказывается весьма неопределённой и изменчивой по временам.
.jpg)
Автор рисунка: Ф. Вахитов
Тайнобытие человека
Надо ставить вопрос и о степени и цели тайны. Существенно то, что тайные общества обычно имеют более масштабные цели, чем просто заговор для устранения того или другого политического оппонента: изменение уклада жизни, или социального строя, или личности человека вообще и т. д. Для успеха заговорщикам приходится в более или менее безопасных формах оповещать о своих планах тех, кто мог бы примкнуть к движению или содействовать его поддержке более широким кругом лиц.
Впрочем, в претворяемые замыслы жизнь вносит свои серьёзные поправки; сначала хотели одного, но по ходу дела намерения радикально переменились. Не думаю, что заговор против Павла I или Цезаря готовился именно как убийство. Тут, вероятно, в последний момент сыграл свою роль страх перед разоблачением и его последствиями.
Случается, что тайной становится таинство, отвергаемое или тем более преследуемое государством. Бывает, что заговоры просто кому-то «померещились».
Если при этом мнительный человек не имеет властных или карательных полномочий, то подобные ситуации, то и дело возникающие в обыденной жизни, не получив продолжения, умирают сами собой. Иной ход события получают, если мнительность или выдаваемая за неё гнусная корысть питаются правом казнить и миловать.
Так «состоялось» в фантазиях и следственных документах ОГПУ 1929–1931 годов дело академиков С. Ф. Платонова, Г. В. Тарле и других ленинградских и московских историков, а затем и дела местных краеведов, подсоединённых к придуманному монархическому «Всенародному союзу борьбы за возрождение свободной России». Тогда же для подтверждения и оправдания сталинского тезиса об обострении классовой борьбы и якобы зловещей для грядущего социалистического строительства роли буржуазных спецов-интеллигентов были созданы сценарии заговорщицкой вредительской деятельности видных инженеров, экономистов, священнослужителей и др.
Опирались на какие-то данные, внешне вроде бы и документальные. В ту пору, по установившейся университетской традиции журфикса, т. е. фиксированного дня недели, когда профессор принимает у себя на квартире коллег и учеников, дома у этих учёных собирались люди.
Естественно, разговоры шли о том, что волновало: о преследованиях дворян за происхождение, священников за веру, о необходимости противостоять активности коммуниста-академика М. Н. Покровского, стремящегося отстранить воспитанных в духе прежней исторической науки учёных от активной научной и особенно преподавательской работы.
Из подобных бесед в «своём кругу» чекисты-детективы сочинили «тайное общество». В последнем примере речь можно вести и о иной «тайне»: в государственной системе, помимо извечно существующих военных, административных, полицейских секретов, есть некая тайна, которая поднимает приобщённых к ней немногих над простыми смертными. Оберегая её от общества, они оберегают своё шкурное благополучие, даваемое причастностью к механизму власти.
.jpg)
Подымите мне веки. Коллаж В. Земцова
В СССР бюрократизм поддерживал свои небывалые привилегии особым механизмом государственного управления. Ведь, вопреки Конституции, реальной властью в стране обладала Партия, т. е. Коммунистическая партия, а в ней – власть над властью – Политбюро. Оно и подчинённый ему аппарат ЦК определяли среди тысяч других дел и «секретность» той или иной информации.
Секретили всё, что казалось почему-либо неудобным. Вспыхнула своего рода «эпидемия» засекреченности, которая, как круги по воде, разбегалась по всем коридорам госструктур. Рассказывали, что в каком-то научном центре, где в одном отделе не смели знать, чем заняты в другом, получен был заграничный журнал с правдивой характеристикой работы сразу всех отделов; решили скрыть журнал от своих сотрудников, которые и так всё знали и понимали, отправив его в спецхран.
Помню, как удручён был мой отец (1) тем, что узнал из доклада Хрущёва на XX съезде. Особенно поразило его то, что он и не подозревал о причине смерти Орджоникидзе. 1937 год – пик славы Отто Юльевича: позади «Челюскин», готовится экспедиция на полюс (отец поэтому часто ездил в Кремль по делам). И никто из людей Кремля не допустил ни одного даже невольного слова, могущего пролить свет на тайну трагедии. Значит, в своём узком кругу они настолько боялись друг друга, что избегали даже тени намёка на эту тему. Они не чувствовали себя в безопасности ни минуту, ведь сколько раз бывало – сегодня сажают человека, с которым ты вчера обедал в одной столовой... Но кто, как не они сами, выбрали для себя такой «стиль бытия» (кстати, выйти из него иногда виделось столь же сложной задачей, как войти туда).
Тяга к сопричастности
Каковы мотивы людей, вступающих в тайные общества? Прежде всего с этим шагом для большинства неофитов открывается какая-то доступная форма жизненной активности, саморазвития или познания мира через общение в «малом соборе» (соборность ведь универсальное свойство нашей культуры и общественного сознания), что важно и для самоопределения, и для утверждения своего места среди людей в большом мире. Последнему – утверждению людской иерархии – служат и системы символов.
Скажем, свастика или жёлтая звезда, которую нацисты приказали евреям на оккупированной территории постоянно носить на одежде, или возьмите любой другой знак такого рода – о чём они говорят? «Я выше тебя!» Или указывают чужакам на их приниженный статус в глазах «посвящённых». Возвышающее положение в иерархии особенно привлекательно для несостоявшихся личностей, у которых есть признаки таланта, но чего-то главного им недоставало.
Пример судьбы художника-ефрейтора-фюрера Гитлера здесь характерен. Чувство причастности к некоей высшей тайне, очевидно, потребность для некоторых людей. Сюда близко подходит и тема элитарности, подлинной и мнимой.
Возможность находиться в кругу лиц, тобой выбранном, но не тобой определяемом, кажется иногда привлекательной. Не случайно многие декабристы – аристократы по происхождению – прошли через посвящение в масоны. В ложах встречались представители разных сословий и разного материального достатка, объединённые общим духовным интересом, их общение вне этой допущенной обществом условности было затруднительно.
Есть в склонности человека к тайному ещё и какая-то детскость (талантливые люди сохраняют её до конца своих дней), связанная, видимо, со стремлением преодолеть, пусть в полусерьёзной игре, навязываемые кем-то условности или даже собственную инерцию воспитания.
Переиначить мир, увидеть в нём новый, недоступный другим смысл: «Я вижу, а он нет», – продиктовано бывает не только одним стремлением стоять над. Интеллектуальная игра может привести к открытиям. Вечная мечта и цель древних жрецов и колдунов, сказителей мифов и шаманов – заглянуть в «инишнее царство». Сейчас, в XIX–XX веках, особенно после трудов Фрейда, Юнга, Бахтина, Голосовкера и других, мы начинаем понимать, что у человека есть не то чтобы второе дно, но то, что наблюдается на поверхности души и разума, – не единственное их содержание.
По сути это тоже попытка заглянуть в «мир иной», но не вне, а внутри нас. Вырваться из привычного, подготовить сознание к ви́дению того, что ещё мы не знаем, – тайны смысла странного необъяснённого, непривычного...
Вообще, каждый миг мы идём по грани открытого, явного и – таинственного, сокрытого от нас. Жизнь, независимо от нашего желания-нежелания, разделяет социум на какие-то ячейки и разыгрывает на этих полях свои, не до конца понятные человеку партии. Каждый из нас, обитая в обществе, не может не оказаться – зачастую невольно – в той или иной его ячейке, нише.
Если ты способен мыслить, то постараешься уяснить, в каком месте оказался и почему?Сама по себе занимаемая нами клеточка мироздания зачастую не имеет ценностной характеристики, но для других, смотрящих на вас извне, важно понять: что вы собой представляете? выше их или ниже? хуже или лучше? Вы вынужденно принимаете правила предложенной игры, подчиняясь диктатуре своего места на лесенке.
Раз есть такая ячейка, люди делятся на посвящённых и непосвящённых в её суть. Степень освоения таинства окружающего вас здесь и теперь мира также разнится у разных людей. Но и в этом случае по большому счёту личность определяет, что до́лжно определять не внешнее – звёзды и эполеты, титулы и звания, приобщённость к вере в партию, народ, китайскую (русскую, французскую и т. д.) революцию, а внутреннее. Встречают человека по одёжке, но ценят-то в конце концов в нём...
Записали Лариса Левина и
Александр Кореньков
***
1- Отто Юльевич Шмидт (1891–1956) – известный советский полярник, академик.
Ещё в главе «Идеи - дела - судьбы»:
Умеете ли вы конфликтовать грамотно?
Жизнь и тайнобытие (мысли о феномене тайных обществ, и не только о нём...)
