Земледелие как любовь
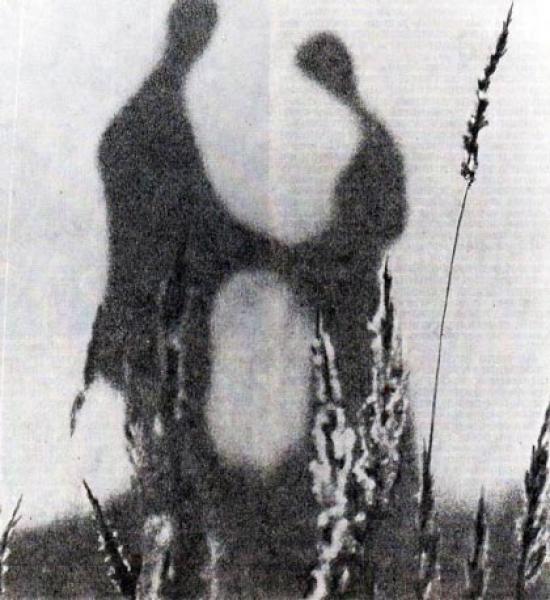
Имя Георгия Гачева хорошо известно постоянным читателям «Социума». В 1991-м году журнал дважды обращался к его творчеству: в № 1 опубликована статья «Творец, уста явленьям отмыкающий», а в № 10-11 – «Космософия России». В этом году в «Социуме» (№ 3) напечатан авторский дайджест Г. Гачева «Пофилософствуем о любви, добре и зле...»
Предлагаем вашему вниманию фрагмент из философского эссе «Русский Эрос», в котором автор, наряду с прямым анализом предмета, обозначенного в названии эссе, обращается к теме земли как истока любви.
Глубинный русский Эрос, по мысли автора, неразрывно связан со своеобразием русской исконной жизни – жизни на ЗЕМЛЕ. Георгий Гачев со свойственной ему оригинальностью сопоставлений проводит интересные параллели:
...Как пахать (обрабатывать) русскую мать сыру землю, как быть с ней, как жить с ней – это тот же абсолютно вопрос, что и: как мужчине русскому любить русскую женщину, как быть с ней, как жить с ней?
Что есть жалость как вид любвислияния? В жалости прижимают, гладят, гладят, утирают слёзы, то есть поверхностно – всё на поверхности тела женщины; ухаживают (обрабатывают землю), утешают, утешают – без проникновения, внедрения телесного. Жалея, сохраняют в целости и неприкосновенности – как раз не трогают. А в страсти – вон как в видении св. Теодоры: распарывают, все кости зубилами пересчитывают и душу вытряхают...
Видно, велика русская земля, да, как белотелая русская красавица, тонкокожа – голубенькие венки просвечивают недаром такие неглубокие здесь колодцы: ткни – и вода пошла. Так что любит она обращенье нежное, обходительное – при всей своей большой комплекции и рыхлой массовидности: погладить, приголубить – тогда тает и легко отдаётся – из благодарности, нежности, опять же жалости, а не обязательно из влечения: раз тебе хочется – на, мне не жалко, но сама вертикально-коренного сотрясения (оргиастического землетрясения) не испытывает или редко... А что ж: зачинать – зачинает, плод даёт.
«Чего вам боле?..» Что неказист, не сочен, не развесист, не богат? А на что он? Может, он здесь по климату не подойдёт – пышный-то и богатый! Завянет и сникнет в итоге, а сморчок – он долго протянет. Вон как верблюд в пустыне: воды ему мало надо, и хорошо живёт и тянет. А начни его поить и распаивать, да он станет жаждать уже где-нибудь на полпути до оазиса – что ж, тогда ему каналы с применением техники и энтузиазма туда проводить? Был хороший верблюд – а станет плохая лошадь. Так что ли? Этого хотите?
Вот, пожалуй, таковы внутренние аргументы и космические основания, по которым мужики Левина (в «Анне Карениной»), как ни старался он приохочивать их к делу: и заинтересовывал, и участие в прибыли предлагал, – всё норовили как-нибудь стороной работу обойти. А всё – потихоньку да полегоньку, – так вроде само и идёт, и сама собой работка сделается: в лес не убежит.
Левин и упёрся в главный для России и космический и политэкономический пункт: нежелание народа более энергично и рачительно эксплуатировать землю. «Левин начал этою зимою ещё сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки и хозяйства выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего» («Анна Каренина», ч. II, гл. XII).
.jpg)
Голова Девы (Из серии «Легенды забайкальских гор»). Художник А. Кулинич
Значит, русский ум Толстого, во-первых, восстаёт против западноевропейской вещно-предметной науки, которая исследует и высчитывает объективные факты: климат, почва, что могут и должны дать «при правильной агротехнике», – и тупа перед «психологическим фактором»: хотенье или нехотенье земледельца; или полагает, что можно эту волю земледельца организовать и науськать его на землю (как подпустить жеребца на кобылу), если создать ему хорошие условия: трудовые отношения. Но «отношение» = «ношение», вещь поверхностно-горизонтальная.
А земледелие = любовь – вещь глубинно-вертикальная: без охотки вожделения не будет. Нельзя возделывать землю не из любви к ней, не из самозабвенно-вертикального в неё влечения, а ради чего-то другого: лишь бы отнести плод, как средство заработать, и продать на рынке – и купить телевизор. Отнести плод земли от земли вскормившей – это как ребёнка отлучить от матери и передать в руки приходящей женщины или вообще – в ясли, на механические руки.
Оттого и получается американское продовольствие: химизированный безвкусный хлеб, искусственно ускоренно наращивающееся мясо – и рекламно-механические улыбки и стандартные реакции людей среди взаимозаменимых лично-любовных отношений. Без трагедии – умирающего и прорастающего зёрна.
...Будто приступ земледельца к работе, его настроенность на работу – не оттого, что весной, например, пары и дымы, волнующие зовы поднимаются с груди земли, как ароматы женского тела бьют нам в ноздри и наливают нас вожделением, или густые пряные травы в пору сенокоса зовут взять себя... (Шолохов-казак умел это сказать).
.jpg)
Художник А. Кулинич
Собственно, Толстой-художник и душу, и Эрос земли живописует (ср. Левин на сенокосе), но рассудок его более холостой и скопический: хочет соединить целостную душу (которая вся состоит из любви и влечений) – с механическими лоскутами, понарезанными наукой из земли и обозначенными ярлыками: «климат», «почва». Левин не понимает, что русский Эрос – между русским человеком и его землёй – не выдумки, и не мистика, и не «грех» тем более, а живёт и определяет и время, и сроки, и характер вспашки даже: на сколько сантиметров (обычно неглубоко, как и колодец, – потому мог Терентий Мальцев предлагать вместо плугов какие-то лущильные диски-колёса).
Как, глядя на дорогую, родную, поблёкшую, постаревшую, похудевшую, измученную жену или сестру, тебе хочется её погладить, слёзы утереть, утешить, успокоить, то есть именно пожалеть – приголубить, а пронзать, рвать и терзать, вспарывать, вспахивать нет никакой охоты: вожделеть к ней не можешь, желать её, алкать (значит – съесть, проглотить – погубить), но именно такого: супружеского как братски-сестринского, с лёгким акварельным оттенком, желания – лишь бы, лишь бы плуг пахал и семя имело б канал для просочения...
...Плодородящий слой земли в России неглубок даже в средне-европейской полосе, не говорю о Сибири, где вечная мерзлота с глубины 1-1,5 м вообще препятствует проникновению к глубинной жизни. Везде, значит, в России остаётся лишь выход к жизни широкой и возвышенной.
Глубокая вспашка вредна и в серозёме среднерусской полосы: рыхлит, выветривает, убивает сырозёмность, теплоту и влагалищность самого плодородного и жизненно чувствительного поверхностного слоя тела русской земли. Но и русская женщина, хоть телом пространна, дебела и вроде бы и глубока, чувствительный огневодный = эротический слой имеет именно на поверхности, а далее вглубь – вечная мерзлота.
Недаром и «полезные ископаемые» в России залегают близко к поверхности и разрабатываются открытым способом (Курская магнитная аномалия, гора Магнитная – целый нарост плодородия не вглубь, а под кожей прямо). Вообще весь Урал – как внематочная беременность: недра выворочены, подняты вверх; то же нефть волжская, в отличие от глубокой бакинской, и так далее. И слои залегают не глубоко, но на большой территории. Я понимаю в Грузии ископаемые – недра обнажаются при глубоких сбросах и складчатых горообразованиях. А здесь мирные сглаженные холмы (не горы даже) – выветренные и обнажённые.
Но это значит, что у России, женщины, вечная жажда, чтобы её «покрыло» населением, чтоб человечками насел на неё народец повсюду. При неглубоком плодородном слое земли и при её бесконечной распростёртости ясно, что России не столь хочется, чтоб народ укоренялся и углублялся в нескольких точках, что становятся ей больно раздражительны, как язвы на теле и местная сыпь, но чтоб непрерывно расселялся, двигался по ней, метался и мотался по её дорогам как странник – божий человек и перекати-поле, нигде надолго не задерживаясь.
Летуны, «шатуны» – недаром есть и секта такая в русском христианстве. И обилие бесприютных, блатных, разбойных птиц большой дороги, её обслуживающих и клюющих, – был постоянный фактор русской жизни: всегда кто-то «в бегах», в «нетях», на отхожем промысле, на вербовке по договору, на поселении и в ссылках, в командировке – временно обязанные, на военной службе, по путёвке райкома – брошен на целину или укрепление.
Россия с неизбывной её жаждой к никак не могущей свершиться колонизации (от Ермака до освоения целины) – что ещё отметил В. О. Ключевский – вселяет этот зуд – «охоту к перемене мест» и чувство необязательности именно этого места – в население. Оттого слаба здесь «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», что чутко отметил Пушкин, то есть недостаточно преемственности и традиции, в глубь веков, по вертикали на одном месте уходящей (Чаадаев тоже об этом горевал), а всяк и всякое общество начинает словно на пустом месте.
Точнее: есть в России преемственность не столько по вертикали, но постоянно действующее силовое поле размётывания, выкорчёвывающее людей с несколько насиженных и обжитых мест и выбрасывающее их в другие. И они потому – эти новые места – не чужие, но скоро такие же свои, родные, правда, без особой привязанности и с готовностью быть опять унесёнными ветром.
Итак, в России традиция – прерывание и сметание традиций, то есть отсыл вертикалей в горизонтали. Традиции в России не вглубь уходят радиусами, но дорогами по окружности и её касательным в мировое пространство расходятся. (Вот почему здесь в Космос естественно первыми было слетать.) Эти тяготения – море зовёт, Сибирь зовёт, Космос зовёт – стремление откликнуться на призыв. «Эхо» русского поэта и так далее – вот все эти съёмные и снимающие сигналы интимны и родны для слуха русского человека, а не бурчание и чревовещание земли и отеческих могил: «Не в наследственной берлоге, Не средь отческих могил. На большой мне, знать, дороге Умереть Господь судил...» (Пушкин).
Из сборника: Опыты. Литературно-философский ежегодник. М., Сов.писатель, 1990
...Как пахать, обрабатывать русскую мать сыру
землю, как быть с ней, как жить с ней – это
тот же абсолютно вопрос, что и: как мужчине
русскому любить русскую женщину, как быть с
ней, как жить с ней.
.jpg)
Ещё в главе «Деревня - город - отечество»:
Земледелие как любовь
