Трудно быть белым
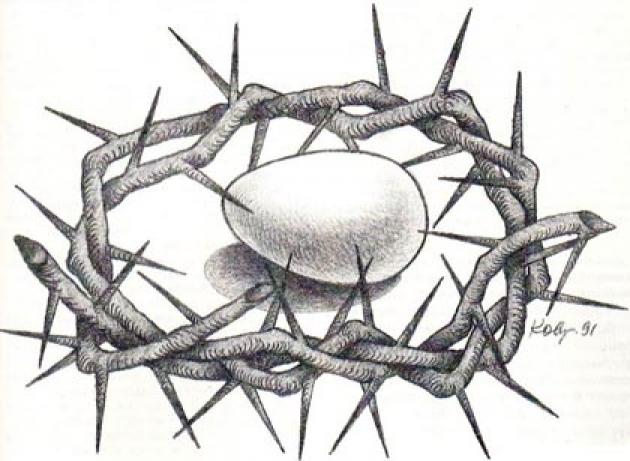
Философа Дмитрия Галковского нет нужды представлять читателю «Социума». Во втором номере нашего журнала за 1991 год был напечатан отрывок из не опубликованной тогда рукописи «Бесконечный тупик», о феномене Розанова. Фрагменты этой работы «разбрелись» по различным периодическим изданиям и вызвали заметный интерес к мыслям и личности автора.Одно из московских издательств выпускает в свет труд молодого философа.
Мы предоставляем свои страницы для текста-диалога Дмитрия Галковского.
.jpg)
Дмитрий Галковский. 1985 год. Бронза и мрамор. Скульптор В. Евдокимов
.jpg)
Просто Дима, до бронзовения
– Дмитрий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о своей биографии и об истории написания Вашей книги.
– Да рассказывать, собственно, нечего. Родился в 1960 году в Москве, окончил среднюю школу, потом три года проработал наладчиком на заводе имени И. А. Лихачёва. В 1980 г. поступил на философский факультет МГУ, окончил его, долго не мог найти работу.
В 1990 году мне, наконец, удалось устроиться в редакцию одного из столичных журналов. Но оттуда я уже уволен...
Что касается моей книги (она называется «Бесконечный тупик»), то я начал её писать, учась в университете, закончил в 1988 году. Я никогда не занимался политикой, но в своей рукописи счёл необходимым назвать вещи своими именами. Поэтому публикация стала возможной лишь где-то год-полтора назад.
Правда, теоретически существовала возможность публикации на Западе. Но у меня не было непосредственных контактов с эмиграцией. С оказией я отправил три экземпляра рукописи за границу (два во Францию и один в США). Все они бесследно исчезли.
Начиная с 1989 года, стало безопасным идти с подобным произведением в советское издательство, но в наших условиях попытаться опубликовать книгу без влиятельной рекомендации, да ещё объёмом в 1000 страниц... да меня бы оттуда с лестницы спустили. Поэтому я стал распространять свою книгу путём ксерокопирования и распродал в течение 2-х лет около 30-ти экземпляров. «Бесконечный тупик» покупали, но реальной помощи мне никто из покупателей не оказал. Наконец, весной 1990 года одна из ксерокопий через третьи руки попала к литературному критику Вадиму Кожинову. Моё произведение показалось Кожинову небезынтересным, и он рекомендовал его к публикации в ряде журналов и издательств. За что я ему искренне признателен... Вот, в общем, и всё.
– Ну что ж, можно сказать, что в конце концов Ваши усилия увенчались успехом и Вас вскоре можно будет поздравить с литературным дебютом.
– Понимаете, я рассматриваю сложившуюся ситуацию несколько иначе. Свою жизнь я всегда ощущал как цепь всё более увеличивающихся неудач. Я провёл детство в центре Москвы и был очень привязан к своему дому. Когда нас выселили на окраину, – это было для меня трагедией. Во дворе дети рабочих и уголовников издевались надо мной. Я очень любил учиться, уже в младшем возрасте хорошо знал античную мифологию, историю, мне очень хотелось изучить иностранный язык. Но в школе меня травили и ученики, и учителя. Три раза пытались выгнать.
Десятый класс я закончил худшим. Потом, в университете, я специально притворялся и учился довольно хорошо. (У меня в дипломе только одна тройка: по какому-то издевательскому предмету, кажется, «диалектическому материализму»). Но и тут мне не удалось избежать провала.
Защита диплома (я специализировался по истории зарубежной философии) окончилась крахом. Мой оппонент сказал, что я глупый, невежественный и злой человек. Его почти часовая речь неоднократно прерывалась хохотом сидевших в аудитории.
На меня навешали всех собак, начиная от того, что я изобразил великого античного мыслителя Платона мрачным мизантропом, в то время как он был хорошим, добрым человеком, любил зверюшек и так далее, и кончая неизбежным «незнанием трудов классиков марксизма-ленинизма». Или последнее «событие». Я уже говорил, что работал в журнале. Меня приняли на должность заведующего отделом. Я старался работать как можно лучше: написал на 50-ти страницах записку об улучшении работы редакции, подготовил к публикации целый ряд материалов.
В результате меня выгнали из журнала «в 24 часа», обвинив в нежелании работать и нарушении трудовой дисциплины. Поэтому я не сомневаюсь, что и публикация моей книги, если она действительно произойдёт, принесёт мне мало хорошего. Я получу, правда, некоторую сумму денег (весьма незначительную и «в дереве»), но за это последуют новые несчастья, новые издевательства и обвинения – в невежестве, в человеконенавистничестве, в животном эгоизме и так далее.
– Дмитрий Евгеньевич, мне кажется, Вы преувеличиваете предопределённость своей судьбы, а следовательно, и судьбы человека вообще. На самом деле многое зависит от самой личности, от трудолюбия человека и его таланта. Как правило, большие усилия в конце концов получают своё вознаграждение. Вы не опустили руки, шли против течения, и теперь...
– И теперь «дал на себя информацию». Я всегда, начиная с 7-8-летнего возраста, чувствовал ненависть со стороны окружающих. А «насильно мил не будешь». Вот школа. Почему надо мной глумились? Я был неспособен? Неверно. Ведь я потом кончил МГУ.
Трудный характер? Опять неверно. Никакого патологического хулиганства или истеричности за мной не наблюдалось. Тем не менее вполне рациональная причина ненависти ко мне есть.
Дело в том, что я всегда был Личностью. Даже в 7 лет. Я был Особенный. Отличный от окружающих.
Вы сказали, что «многое зависит от личности». Правильно. Но в нашем обществе от неё прежде всего зависят её собственные мучения. Сам факт появления личности в нашем мире даёт окружающим её «простым советским людям» неисчислимые возможности для виртуозного «отведения души».
Я Вас прервал, но Вы, собственно, хотели сказать, что я счастлив. На самом деле я несчастен и забит. И забит «ни за что ни про что». Просто за то, что я Личность. Личность, в силу ряда причин живущая в мире, где личностное начало не развито. Не развито настолько, что сам факт появления развитой индивидуальности является аномалией. Аномалией, которая гнездится в двуединой природе русского мира, его одновременно и западной и восточной ментальности. Восток и Запад в России неразрывны. Люди живут в азиатских коммуналках и по- европейски мучаются этим.
Рождается Толстой, величайший индивидуалист и эгоист, и воспевает в своих произведениях азиатское «роевое начало». Пожалуй, ни в одной нации нет таких масштабных внутринациональных отличий, как у русских. И я русский, и окружающие меня русские, но мы совершенно разные люди. Абсолютно разные. Полярно. И одновременно совершенно близки.
Например, моя мать. Трудно найти более мне чуждого человека, человека, может быть, оскорбляющего моё достоинство. Но одновременно она и максимально близкий мне человек, потому что – мать. И мать, по-своему любящая меня. И смысл моей книги – почему я считаю она должна быть опубликована и почему её стоило бы прочесть многим людям – заключается в том, что в ней решается вопрос существования русской личности, даётся некоторый способ существования русской личности в русском мире вообще, и в мире сегодняшней «советской» России в частности.
– То есть Ваша книга помогает противостоять социалистическому, коллективистскому хаосу, помогает обрести давно утраченный порядок, структуру личности.
– Да. По крайней мере, так бы хотелось. Это «борьба за Логос». Борьба жалкой, загнанной в угол Личности. Большая буква здесь подчёркивает не масштаб – весьма незначительный, – а её «живость», «действительность». Да, борьба маленькой Личности с государственным и мировым хаосом.
– И какова же технология выживания «я» в социалистическом «Мы»?
– Ну, во-первых, чисто механическое сопротивление. Иногда стоит просто кричать. Вам давят сапогом в грудную клетку, сопротивляться физически вы не можете – что вам остаётся? Извиваться и орать. Но молчаливая ненависть глубже. Следует ненавидеть и понимать.
– Злобное отношение к существующему миру. Не есть ли это более тонкий вариант погашения личностного начала?
– Знаете, главная ошибка при рассмотрении абстрактных проблем – это как раз излишняя абстрактность. Масштаб и так непропорционален бедному человеку, зачем же крутить ручку телескопа ещё дальше? Поэтому давайте вернёмся к такой конкретной вещи, как моя биография.
Вот, смотрите, ко мне приходят и говорят: «Дмитрий Евгеньевич, миленький, расскажите нам, пожалуйста, про горные высоты мирового духа. Вы такой умный, все науки превзошли, а мы под чаёк посидим у телевизора, послушаем».
Что я могу ответить? Кто я? Кем бы я был в нормальных условиях? – Профессором в Сорбонне. Тихо изучал бы там античность.
Мне повезло в жизни. Я «баловень судьбы». Один на тысячу, на миллион вытягивает счастливый билет: идеальный голос, богатство, умение рисовать. Я вытянул свой счастливый билет – интеллект. Теперь как мне его пришлось использовать. Оставим за рамками «трудности роста».
Итак, мне 17 лет. Я окончил школу с троечным аттестатом и плохой характеристикой. В ВЛКСМ не вступил. Только что у меня умер от страшной болезни отец.
Меня должны забрать в армию. В армии шагистика, мордобой. Время, когда один год учёбы идёт за пять, я буду вынужден провести в казарме. Результатом этого неизбежно будет отставание в уровне развития. Что я делаю? С высоким-то интеллектом? Ложусь в психбольницу и оформляю справку о психической неполноценности.
Далее. Университет. С моим аттестатом поступить туда невозможно. Единственный шанс – сдать все экзамены на отлично. Четыре пятёрки ставят только «своим» абитуриентам, поэтому я даю приёмной комиссии взятку. Однако и после этого меня не берут на дневное отделение из-за нехорошей статьи в военном билете.
Мне приходится идти на вечернее. Для того чтобы там учиться, днём необходимо работать на производстве. Действительно, совмещать работу с серьёзной учёбой в университете невозможно, поэтому я оформляю фиктивные справки, а живу на средства матери.
Мать охотно кормит меня и даёт деньги на карманные расходы, но за это надо платить: ежедневно выслушивать её виртуозную нецензурную брань, попрёки, нотации и так далее. Пойдём дальше.
Для учёбы мне нужны книги. Большинства из них нет в свободной продаже или они стоят слишком дорого.Тогда я при помощи своих товарищей организую печатание необходимой литературы. Книги размножаются нелегально на ксероксе одного из предприятий. Чтобы окупились расходы, часть тиража я продаю. Таким образом я превращаюсь в книжного спекулянта, а поскольку значительная часть литературы «антисоветская», то я уже окончательно чувствую себя «особо опасным государственным преступником». Далее.
Основой моих занятий служит не учёба в МГУ, а самообразование, так как на философском факультете того времени лекции читали какие-то лощёные армяне и пьяные киргизы. Было видно, что всё это они за деньги, за деньги купили себе должности и диссертации.
Я учился на пятёрки, но это было, за исключением двух-трёх предметов, чистой воды придуривание.
Во время «беззаботной студенческой молодости» я вёл скрытную, двойную жизнь, ни с кем особенно не сближаясь и никогда не давая на себя лишней информации. Я не расслаблялся ни на один день, не выпил за эти годы ни рюмки вина и всегда трезво взвешивал: кому, когда, зачем и что сказать.
Я вёл напряжённую шахматную партию с государством. С миром. И проигрыш, я понимал это, означал в конце концов физическую гибель в тюрьме или психбольнице.
Но цель? Какова была моя цель? Стать Наполеоном? Нет, я никогда не был закомплексованным маньяком. Мои действия были просты и рациональны. И также проста и рациональна была моя цель. Я хотел стать... обывателем. Интеллигентным европейским обывателем. Вот и вся моя тайна, моё «особо опасное государственное преступление».
Я мечтал о своём доме, о любящей жене и детях и о том, чтобы меня оставили в покое, чтобы я мог в спокойной обстановке заниматься своей философией. И ничего этого, несмотря на колоссальные усилия, я к 30-ти годам не добился. И сейчас это для меня так же далеко, как, например, полёт в космос.
А казалось бы, это ведь пустяк. Это дано каждому. Каждому среднему, нормальному человеку. А для меня это фантастика. Значит, тут что-то не так. Значит, игра ведётся не по правилам. Наверное, я миру этому чужд. Одной из целей поступления в МГУ было преодоление личного одиночества. Я мечтал познакомиться с девушкой, с которой была бы возможна не только физическая, но и душевная близость. Но я не смог включиться в мир студенческой жизни, так как не попал на дневное отделение и, кроме того, боялся быть слишком на виду и привлекать к себе излишнее внимание...
Теперь ко мне подходят и говорят: «Ну вот, мы знали, что у нас в стране все эти годы росла интеллектуальная смена. Годы застоя – это не «голое отрицание». (В это время вызревало новое поколение). Но я не поколение. Я не закон, а исключение. Я появился «вопреки».
Розанов писал, что при социализме никаких гениев не будет, потому что «Леонардо да Винчи» школьный коллектив ещё в 12 лет свернёт шею. Меня не сажали в тюрьму, даже почти не били. Но я жил в мире совершенно мне чуждом. Настолько, насколько это вообще возможно. С семи лет я был «резидентом» в стане врага. Я всегда чувствовал, что сам факт моего бытия оскорбляет нравственность этого мира. Настолько, что даже если покончу с собой, то вызову не вздох облегчения, а взрыв негодования: кому-то «отчётность» испорчу, каким-то близким доставлю душевное неудобство.
Если я смог написать огромное, сложно организованное произведение, посвящённое русской культуре и философии, то не потому, что я, вот, умный, а только потому, что я, между прочим, обладал и колоссальным зарядом воли. Таким, что от одного моего взгляда алюминиевые вилки узлом завязывались. Но я жил все эти годы не на проценты, а на капитал. И вот к 30-ти годам – совершенно опустошённый, одинокий человек, действительно ставший психопатом. За что? Мне говорят: «Ну, у вас сейчас «сто путей, сто дорог».
Предлагают писать учебники для «совков». А я говорю: «Отпустите меня. Хватит, отпустите. Наглумились, наиздевались вдосталь, теперь отпустите!» Я европеец, а европейцы должны жить в Европе, а не в СССР. И знаете что? Я не люблю эту страну. Вообще русскую культуру – не люблю. Не то что она меня бесит или угнетает. А вот есть несколько степеней отстранения: неприязнь, раздражение, злоба, ненависть. А потом дальше – больше. И, наконец, резьба срывается и начинается равнодушие. И это равнодушие, ещё дальше, переходит в холодный интерес. Вот этот холодный интерес я сейчас и испытываю к России. Говорят: многострадальная и так далее. А я говорю: «Деньги верните». Знаете, в 60-е годы была прибаутка про «вещизм» американских нелюдей.
Во время советской выставки в Америке демонстрировался печатный станок. И какой-то американский мальчик стал регулярно приходить и печатать на нём рекламные проспекты.
«Совки» думали, что ему нравится – он это делал аккуратно и с видимым удовольствием. И когда выставка уезжала, гадёныш подошёл к руководителю и сказал: «А деньги? Ау... деньги, твою...» То есть в книге было написано, что «члены советской делегации были неприятно удивлены», но я себе это наглядно именно так представляю. И денег, конечно, «провокатору» не дали. Так вот, господа, пожал-те мне за 10 лет труда деньги. Гонорар-с с книжечки. Да и моральную компенсацию желательно бы: голые на столе пляшите. А я, я чаёк попью... А впрочем, это всё чушь.
Идея должна быть другая: «Не связывайся с блатарями». Себе хуже будет. Ничего они не дадут, а, пожалуй, наоборот, последнее отнимут. Поэтому одно остаётся – бежать. Пока я ещё не стар, пока мой ум, моя честность ещё могут найти благодатную почву, и я тогда смогу построить
свой дом,
свою семью,
свой мир.
И умереть, сказав: «Жизнь бессмысленна, но имеет некоторый стиль. Я не нарушил его. Поэтому мне грустно уходить, но не страшно». В СССР же, как видно, начинается «весёлая жизнь». Можно, конечно, нырнуть в неё, пуститься во все тяжкие. Но что в конце? Страх и ничего, кроме страха. Жизнь здесь – безвкусна, бессильна. Пошла.
– Я мог бы согласиться с Вашим монологом в той его части, где речь идёт о современном политическом режиме. Но сама Россия есть явление многомерное и вневременное. Вы лишь подтвердили мои опасения относительно соблазна абсолютного отрицания этого мира. Повторяю, это лишь более тонкая разновидность общего зла.
– Я вижу, что теперь следует повернуть ручку телескопа в другую сторону. Отличие философа от простого смертного заключается в том, что он за отдельными проявлениями мира видит определённую закономерность. Видит сам этот мир. В целом.
Вчера под дверью стошнило пьяную старуху, сегодня сделали профилактический обыск, завтра вы застряли в лифте и просидели в нём 12 часов. Из вашей собаки сшили уродливую шапку, а сосед – милейший человек – долго и нудно что-то выпрашивал, униженно, жалко, со всё более нарастающей злобой.
Два месяца назад у вас отключили водопровод (ремонт), а месяц назад – по ошибке избили палкой по голове. Спокойно жить вам не дадут. С вами всё время будет что-то происходить. И вокруг вас – тоже: дикий скандал за стеной с поножовщиной и матерной руганью, нашествие клещей и крыс, взрыв булочной за углом. Для окружающих же всё это вовсе не происшествия. Это само «шествие», жизнь, быт. Рутина. Приподнятые брови в недоумении: «А как же иначе?» Это определённое качество этого мира.
Точнее, его глубокая некачественность, ошибочность. Выход один: переселение в другой квадрат, квартал. Город. Страну. Иначе – медленная (а то и быстрая) гибель. Вы для того мира инородное тело. И мир этот будет исторгать вас из себя всеми доступными способами, просто удивляя своей бешеной изобретательностью, от шофёра-алкоголика до светящейся в темноте картошки.
Спорить с миром, даже маленьким, отдельному человеку бесполезно. Вражда с ним – это такая «ситуация», которую невозможно исправить. От неё можно только избавиться, уйти. И первый шаг к такому уходу – внутреннее отстранение: отношение к окружающему с иронической злобой.
Соответственно крушение порочного мира будет возможно лишь в том случае, когда эта ироническая злоба станет и его внутренней доминантой. Только после этого мир перерастёт свои рамки и начнёт саморазрушаться. Есть только один вид устойчивого и самодостаточного хамства – хамство патриархальное.
70-летнее хулиганство кончится только тогда, когда «советский человек» начнёт вызывать брезгливый смех. Сначала им восхищались (внутри его мира, речь об этом), теперь жалеют. Иногда ужасаются. А он просто – гадкий. Мерзкий, вонючий совок. Фу. Как вот в лагере – в столовой есть специальный стол для «петухов». Туда с ними ни один нормальный зек не сядет. «Западло». И вот представьте себе, в кафе совок заходит, садится за стол и свои гротескные «Известия» раскрывает: «Депутат Собчак сделал заявление». А все раз – и выходят. Или его «выходят». Вот когда это начнётся, тогда всё будет хорошо.
Понимаете, жить в СССР – гадко. Неприлично. Я не говорю об интеллектуальном или гражданском унижении – это унижение половое. Жить здесь – это унижение мужского достоинства. Они ниже пояса бьют. Что я могу сказать – муж, отец?
Рассказать сыну, как надо мной глумились в школе? Меня бил один, он боксом занимался. Из класса девушка его выходит, и он меня со всей силы под дых – я скользил по стене вниз, корчился, задыхаясь. Это он так за ней ухаживал: вот, мол, «сильный». «Бесплатное 10-летнее образование».
Или мне рассказать, как от армии уворачивался, прикидываясь сумасшедшим? А жене я, кормилец, «получку» принесу – 25 долларов не в час, не в день, а в месяц? Кто я? Я «советский человек», то есть ничтожество.
К 30-ти годам нищий, ничтожный одиночка. Совок. Вы помните, что, отвечая на Ваш вопрос о «технологии выживания», я сказал, что первым этапом является механическое сопротивление окружающему миру, его физическое, волевое и интеллектуальное отторжение. Но это «во-первых», иначе ваш последующий упрёк имел бы под собой серьёзное основание. Второй этап защиты личностного начала – осознание собственной внутренней дефектности. Ведь весь этот хаотичный безобразный мир имеет свой внутренний коррелят в моей голове. Я же не пришелец и не иммигрант.
Я «кровь от крови и плоть от плоти». Да и сам азиатский «советский мир» тоже возник не от сырости. Когда 60 миллионов смахивается с поверхности планеты без каких-либо видимых причин, то это как раз не случайность – на это, значит, есть причины внутренние. Не таится ли в самих истоках русской цивилизации неуважение к человеческой индивидуальности?
Сама русская индивидуальность русская личность есть. И это свидетельствует о глубоко западной природе нашего мира. Китайское или узбекское «я» – пустое множество, круглый квадрат.
Русское «я», несомненно, существует и можно довольно легко определить его основные параметры, но не менее несомненно, что наш мир есть также мир восточный и русская личность испытывает на себе постоянное глухое азиатское давление, испытывает азиатскую ненависть и презрение к индивидуальному началу в человеке.
Просто до «революции» проблема сильно сглаживалась разумным (но, увы, хрупким) сословным разделением: европейский верхний слой и полу- и азиатская масса. Наиболее болезненным был «стык». Ведь что такое борьба западников со славянофилами? Это антагонизм между интеллектуальной частью европейской элиты и третьесортной «колониальной» интеллигенцией, вышедшей из народной полуазиатской толщи. Эти «разночинцы» и так были измучены комплексами, а тут ещё их место оказалось занятым «белыми» – вот и метафизическая причина катастрофы XX века.
И особенно тяжело, когда это противоречие проходило через одного человека. Вообще, это всегда было в какой-то степени, так как чистых «западников» и чистых «славянофилов», конечно, не существовало. Но именно «в какой-то степени». Иногда же случалось и «по центру».
– То есть когда метафизический дуализм русского человека дополнялся и усиливался сословной раздвоенностью?
– Да.
– Интересно, кого из видных представителей русской культуры Вы могли бы отнести к таким людям?
– Из писателей – Чехова, из философов, конечно, Розанова.
О Чехове есть интересные исследования, судьба же Розанова пока остаётся загадкой. Драмы его жизни никто не понимает. А она очень близка именно нам, нашему времени.
Ведь Розанов жил в сословной монархии и к тому же евро-азиатской монархии. И он, мыслитель, был мещанином. Философ от Бога в стране, где философская культура находилась в зачаточном состоянии и где существовала жесточайшая иерархия.
Кем были все эти Мережковские, Бердяевы, Соловьёвы, Шестовы? Да уже в детстве они были «детьми уважаемых людей», детьми номенклатуры, со всеми вытекающими отсюда последствиями: «английскими спецшколами», папиными «Волгами», импортной «жвачкой» и так далее. А Розанов... Давайте, я прочту вам отрывок из его статьи.
«(Я испытал чувство ужаса) в Москве, окончив курс в университете, когда мне ответили «по начальству», что «нет вакансий» на должность учителя, нигде и никаких. Может быть, и были (и даже наверняка были) – да «для своих людей».
Последний рубль истратил на запись в какой-то «конторе для приискания мест»: но и контора не помогла. И вот этот вечер, когда я стоял над Москвой-рекой (на мосту), недоумевая – жить ли, умереть ли, «как буду жить» и «страшно умереть», – он по тоске своей не имел ничего подобного с тем, когда в детстве сапог не было, а лук всё-таки был /.../ А теперь я был в сюртуке и в галстуке, всё как следует.
Пойти в «ночлежку»: да ведь надо адрес знать, надобны «проторённые уже пути», «пример товарищей»; и это всё у счастливого «босяка» есть, он – «капиталист» в смысле обилия «открывающихся дорог» сравнительно с интеллигентом, просто вот только «не получившим места»! – «Что за важность: мало ли таких?!..» Много.
И все эти «многие» гораздо, гораздо несчастнее мужиков, даже несчастнее и босяков, у которых есть «свои люди» и, ей-ей, бездна путей и исходов: наконец есть «алкоголь» (ударение Максима Горького), тогда как я – не пьющий... Что ещё страшно было на этом мосту, даже страшнее всего, отчего и можно было броситься в воду: наступал вечер и быстро-быстро засветились везде огоньки, такие тёпленькие, такие миленькие; и ни к одному-то, ни к одному огоньку я не могу подойти, сказать: «Здравствуйте, господа, дайте посидеть с вами... может, и поужинать можно». Нигде такого места. Всё – чужое!»
Сама по себе ситуация вполне «интернациональна». Но типично русские «детали» доводят до слёз. Оказался один на улице, «интеллигентный безработный». Но ведь Розанов был отличником. И вдруг – ничего. Или если этот мир его отверг, если это гордый одиночка, противопоставивший себя всем, то откуда тоска по «огоньку», по возможности куда-то пойти? Тоска русского человека: «Некуда больше пойти». А зачем куда-то ходить? Тут видна слабость, внутренняя несамостоятельность русского «я». Его отстранённость и одновременно влечение к «другим».
Однако, наверное, я говорю излишне абстрактно. Русские всегда путают масштаб. «Противоречие между личностью и коллективом в русском обществе». Звучит благообразно. Это всё равно, что сказать: «В пенитенциарных учреждениях неформальными лидерами локальных групп являются лица, многократно отбывавшие срок наказания». Но как это реально? – Барачная вонь; «основной» в наколках, сидящий на верхних нарах; и удар сверху пяткой в нос: оглушающая боль и струя крови, текущая по подбородку, по лохмотьям...
Розанов, тайком от жены, – старой идиотки, которая на него орала с утра до вечера, – собрал деньги и издал за свой счёт первый труд – книгу «О понимании». Учитывая молодой возраст автора и пещерный уровень тогдашней философской культуры в России, эта книга была, по крайней мере, явлением незаурядным. Однако на неё никто не обратил внимания: а) не прогрессивная, б) нет протекции. А Розанов, конечно, надеялся, мечтал. Огромный том с таблицами, изданный на последние деньги. Нет, не о славе мечтал, – всегда был трезв, – мечтал о некоторой известности, о том, что «обратят внимание», помогут выбраться из провинциальной трясины. Но «книга не встретила сочувствия».
По-русски не встретила сочувствия. То есть, я объясню вам, о чём речь. В коллективе провинциальных учителей, где работал Розанов, стало известно, что молодой выскочка «написал какую-то книгу о понимании, которую никто не понимает» (Розанов сам раздарил коллегам экземпляры). И вот через некоторое время на пьяной вечеринке один из коллег «сострил»: взял подаренный том, вышел на крыльцо, расстегнул штаны и «облил».
Бердяев всё писал про «русскую идею». А может, Сыть – это и есть «русская идея»? Может быть, 70-летнее хамство имеет свои истоки в самой русской сердцевине? Может быть, не с теоремами, а с аксиомами что-то не в порядке?
– То есть Вы считаете, что русский мир изначально порочен?
– Как и любой другой. Любая реальность греховна. Причём, как известно, один из наиболее тяжёлых грехов, может быть, тягчайший грех – это уверенность в собственной безгрешности.
И, может быть, наибольший грех, лежащий на русских мыслителях, заключается в том, что они очень много говорили о недостатках и пороках русской реальности и очень мало о недостатках и пороках русской идеи. Действительность часто изображалась ужасной. Но истоки, воление, цель – всегда идеальны.
Почему? Почему русская идея «хорошая»? А я говорю, что она гадкая. И могу доказать это по крайней мере с той же степенью убедительности. Конечно, в «Бесконечном тупике», я, желая исправить положение, часто перегибаю палку в другую сторону. На самом деле русская идея просто никакая, безликая.
Идея вообще безлика (за исключением некой божественной идеи, например, идеи христианского Бога, то есть идеи человека). Но контакт с ней всегда «валентен». И высшая форма этого контакта – зрячая любовь, любовь при видении и знании всех недостатков и пороков.
– Итак, всё-таки любовь к России?
– Принятие. Мне жалко её. И себя. Ведь что для моего восприятия есть наиболее конкретное осуществление русской идеи? – Я сам. Но разве у меня доминирующее чувство к себе – ненависть? Нет – жалость. Даже свой ум я всегда жалел.
Я всегда был крайним и последовательным рационалистом. Мой ум холоден и совершенен. Мышление проходит незаметно для сознания, как бы само собой, но, оглядываясь назад, я постоянно ужасался его последовательности: жестокой, неумолимой, не прощающей никогда и ничего. Конечно, я рационалист.
Но в чём суть рационализма, как я его понимаю? В примате рассудка? Элементарный здравый смысл подсказывает, что сам человек – существо иррациональное.
Разум – велик, только человек-то существо конечное и неразумное. Поэтому классический рационализм – это, может быть, худший вид иррационализма. Это иррационализм совершенно наивный, нерефлектированный. Какой из этого вывод? Не следует спорить с собой. Умён не тот, кто бравирует «мощью своего мышления», а тот, кто мудро ошибается.
Кто любит свой ум, но смотрит на его проделки сквозь пальцы и готов идти с ним на компромисс. Следует не утилизировать достижения своего разума, всегда случайные и ограниченные (будет хуже), а, наоборот, использовать его бесчисленные ошибки, лишь иногда и слегка пытаясь исправить в ходе мышления некоторые частности. Исправить скорее с точки зрения ритма и эстетики, а не гнозиса.
В этом отношении разум и нация очень сходны. Национальное – это определённая форма конечности, ошибочности того или иного мира (а «интернационализм» – худший вид подобной ошибки). Следует мириться с этим. Что я могу сделать? Изведут меня здесь. Раз я здесь всем мешаю, раз меня никто не любит, то следует тихо уехать на Запад. Это больно, но здесь будет ещё хуже. Там, без денег, без языка, я никому не буду нужен. Но я действительно никому не буду нужен, и меня оставят в покое.
Я бы остался, если бы меня оставили в покое, если бы я мог надеяться, что, например, своим интервью вызову у кого-то сочувствие или не вызову ничего. Но я вызову насмешки и неприязнь. Меня сочтут бездарным эгоистом. Философов в России никогда не любили. Любили рассказчиков и балерин.
Сейчас популярность Бердяева или Флоренского идёт в русле общего культуропоклонства, свойственного государствам со средним уровнем развития. Но уже раздаются возгласы негодования. Кому-то какие-то русские философы «не угодили». Широта души? Видели ли вы её у русских? Я – нет, и думаю, что выражение «широта русской души» возникло от противного, свойство это ценилось как редчайшее исключение.
Наоборот, для русских чрезвычайно характерна мелочность, мстительность, придирки. Ну, простите, что я есть. Ведь Россия огромна. Её с Луны видно. В ней всё должно быть. Нет, не простят. Даже как чудака не оставят.
Я ведь как «Бесконечный тупик» писал? Учась в МГУ, я в конце концов влюбился в одну студентку, но считал себя недостойным её. Я думал, ну, признаюсь я ей в любви, жалкий, испуганный. Зачем ей это? А я лучше сделаю. Напишу для неё книгу. Чтобы она, умная, хорошая, читала и ей было интересно. А потом признаюсь.
Если она откажет, то всё равно получится хорошо, не обидно. Она отнесётся ко мне с уважением. Мы пойдём с ней по осеннему парку, и мне будет больно. Но не будет хамства. И потом я вернусь в свою жизнь.
В то, что есть мой как бы «дом», где грохот кастрюль и взвизги ополоумевших от злобы мещан; в то, что есть моя как бы «работа» – выклянчивание редких книжек у скучных, неинтересных людей и затем ксерокопирование и продажа людям ещё более скучным и неинтересным, в то, что есть моя как бы «родина» – выход из вагона метро обязательно рывком и за полсекунды до закрытия дверей, мучительное вслушивание в треск телефонной трубки, прятание дневника в корпус телевизора. Но это будет уже не страшно.
У меня не будет настоящего, но у меня возникнет прошлое. Я обрету некоторый стиль жизни... Но она сказала, что я жалкий, ничтожный кривляка и моя книга местами напоминает ей последние годы жизни Мерилин Монро, когда та стала сходить с ума на почве собственной исключительности и часами рассматривала себя в зеркало, задирая ноги и гладя грудь. Что ж, остроумно. Но ведь Мерилин-то Монро, наверное, можно было так? Она ведь была – Мерилин Монро. И даже иначе: пускай я графоман, пускай некрасив и вызываю отвращение. Но всё равно: предположим, такой человек преподнёс какой-нибудь американке огромную книжищу. Она бы закатила глаза: «Во даёт!»
И подруге по телефону сразу: «Представляешь, тут один тип...» А эта, русская: «Нет! Ты как все – ватничек надень, шоколадку «Советский спорт» подари». И я знаю, что так же подумает нормальный советский читатель: «Много о себе понимает, «личность». Надо быть скромнее.
Нам такие «мерилины монры» не нужны. Не надоть. Написал книжечку? Ладно. А теперь сожги. Не высовывайся. Писать-то все мастера. А ты смену у станка отработай». Это средний читатель. А умный скажет: «Да, верно это. В основном. Только зачем ты, чудак, говоришь? Об этом молчать надо. А говорить культурненько: Бердяев, Флоренский, Соловьёв, то-сё».
На Западе модно и престижно быть личностью, поэтому даже совершенно одномерные люди более-менее успешно подделываются под нечто единичное, индивидуальное. У нас – наоборот, и человек, обладающий внутренней самостоятельностью и оригинальностью, должен по крайней мере из приличия натянуть на себя безобразную советскую шапку и встать в общую очередь за талонами на мыло. Вы часто слышали выражение: «Тлетворное влияние Запада». А хоть раз вам попадалось «Тлетворное влияние Востока»? И подходит ко мне азиатская рожа, дышит свонявшимся воздухом изо рта: «А я, брат, думал, ты умнее».
Но я ведь и не так глуп. Как-никак 30 лет в России прожил, и местные условия знаю хорошо. В основе просто:
а) литературность, образность. Наличие определённой интриги. Следует говорить на языке, понятном и привычном для данной культуры, то есть в данном случае на языке литературного мифа;
б) при помощи определённого языка в сознании читателя должна внедряться ёмкая, но простая концепция, правдоподобно объясняющая реальность. Мной использована с этой целью культурологическая концепция «Восток-Запад»;
в) внедрённая в сознание читателя концепция неизбежно переносится на личность автора. Эту персонификацию следует зафиксировать, создав определённый авторский образ. Здесь образ создавался при помощи одновременной игры на понижение («битьё на жалость») и игры на повышение («эпатирование публики»);
г) жизнеспособностью (то есть способностью к самостоятельному развитию) обладают только тексты, образующие замкнутое на себя пространство. Поэтому следует пункт «а» представить производным от пункта «в», что достигается путём приведения литературного стиля и линии сюжета во вторичное соответствие с «автором – литературным персонажем».
Ничего, «алюминиевые вилки» – пройденный этап. Сейчас, в условиях перестройки-то, пора переходить на чугунные тумбы. В 80-е годы философский факультет называли «дубовой рощей». Но в этой роще жила одна зверюшка. 30-метровая. И сейчас она вышла немного погулять на поляне русской литературы. Лапушками потоптать кое-кого.
– Ну что же, успехов Вам, Дмитрий Евгеньевич.
– И Вам также. Если Вы будете развиваться в правильном направлении, в следующий раз я дам Вам имя (1).
– Может быть, Вы хотели бы напоследок что-нибудь пожелать нашему читателю?
– Я свой народ знаю. Вот он где у меня – в кулаке. Мандельштама Осипа Эмильевича читали? «Благословить тебя в глубокий ад сойдёт стопами лёгкими Россия». Это он написал о комиссаре Линде. Его солдаты в 1918 году убили. Он ими, инородец, решил управлять. А народа русского, характера его, – не знал. И погиб.
А меня – нет, врёшь, сволочь, – не возьмёшь. И я тобой, а не ты мной управлять будешь. Ты вот смену отстоял у станка грязного, гадкого, выточил деталь дешёвую, глупую.
А я за это время на машинушке пишущей дома, в тепле, в холе: «чуки-чуки-чук», «чуки-чуки-чук» – 20 страничек. И заработал столько, сколько ты за месяц. Понял, харя российская, как русский дворянин деньги зарабатывает? И всегда так будет.
И денежки эти я потрачу не так, как ты: куплю винца хорошего и с девушкой приятной в Цэдээле посижу. А ты нажрёшься сивухи и будешь блевать в подъезде, где кошки гадят. Так-то, милый.
Будешь слушаться меня и таких, как я, и всё у тебя начнёт тоже по-хорошему получаться. Начнёшь опять кочевряжиться – так и останешься свиньёй гадкой, «совком».
Я ведь не держу зла-то на тебя. Я тебе добра хочу-то. Не твоего ума дело Галковского судить. Не нравится он тебе, а ты гордыню-то смири, терпи. Вот не было его 70 лет. Хорошо тебе было? А с ним всё лучше будет. Он ум твой. Какой- никакой, а есть. А не будет Галковского, так и ничего не будет. Так что, брат, прости. «Дело господское».
1990 год
***
1 – Проницательный читатель уже наверняка догадался, что это интервью с самим собой. (Прим. ред.)
