Роковая тема Георгия Федотова (Трагедия о России)
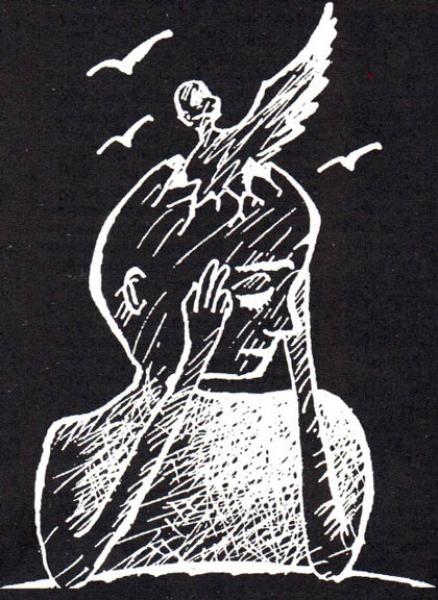
Живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен.
Г. Федотов
Пролог. «Не торчать, где воткнут»
Георгий Петрович Федотов (1886–1951) – это, пожалуй, самая крупная фигура постренессансной философии в России. Если ренессанс блистал в течение немногих лет, что протекли от смерти В. Соловьёва (1853–1890) до смерти В. Розанова (1856–1918), то постренессансная философия ещё и в 50-е годы нашего века была живой и плодотворной. Федотову не везло на признание в академических кругах. Его имя не встретим в истории русской философии ни у Н. Лосского, ни у Б. Яковенко, ни у В. Зеньковского.
Между тем в Европе его можно было бы сравнить с X. Ортегой-и-Гассетом и М. Вебером. В русском зарубежье его знали как публициста. Церковь видит в нём специалиста по агиологии, то есть житиям святых. У нас в России его сравнить не с кем. Здесь его просто не знают, хотя в последнее время и поминают всуе. Работы Федотова по истории русской культуры уже стали классическими. А между тем для того, чтобы имя Федотова попало в список авторов, обязательных для изучения в высшей школе, достаточно трёх его работ: «Трагедия интеллигенции», Esse Homo и «Рождение свободы». А его «Письма о русской культуре» должен был бы знать каждый школьник.
Аналитические возможности Федотова поражают воображение. При чтении его работ, таких как «Конец империй», «Запад и СССР», «Будет ли существовать Россия?», приходишь к мысли, что они написаны не исследователем, а пророком. Духовная ситуация нашего времени провидчески описана Федотовым в таких работах, как «В защиту этики», «В борьбе за искусство». Изящность слога выгодно отличает его от иногда тяжеловесного С. Булгакова, а строгость мысли – от бесконечно повторяющего самого себя Н. Бердяева.
О жизни Федотова нам известно немного. Он умел владеть собой. Эта выдержка принималась за бессердечие, а его любовь к уединённости – за нелюбовь к людям. Пожалуй, никогда так душевно-комфортно он не чувствовал себя, как в послереволюционные годы, в дни общения с членами религиозно-философского кружка (и прежде всего с А. Мейером и А. Карташёвым), кружка, который был разгромлен ЧК в 1929 году.
Здесь хотели советскую власть «скрестить» с православием и получить что-то диковинное, вроде христианского социализма. Кружком интересовались левые Мережковские, но он оказался левее, чем они думали, и они отстали от него. Позднее более или менее сердечные отношения установились у него с Бердяевым. Родственность душ связывала Федотова со знаменитой матерью Марией.
С коллегами-преподавателями у рыцарски честного и чистого Федотова были более сложные отношения. Осенью 1922 года Федотов вынужден был делать выбор: либо оставить преподавание, либо идти на компромиссы с форсированно советизирующимися коллегами. Историко-философский факультет Саратовского университета, на котором он читал свои лекции, обязали взять шефство над одной из фабрик. Мероприятие должно было начаться с символического обряда – под красным флагом и с пением «Интернационала».
Федотов отказался быть участником этой церемонии по своим политическим и религиозным убеждениям. Принципиальный профессор не хотел приспосабливаться к требованиям новой власти, разлагающим самую душу человека. Чуть позднее Федотов писал: «В настоящем состоянии мира оппозиция – единственно возможная и достойная позиция перед ним». И он, невольно следуя К. Леонтьеву, эту позицию старался отстаивать.
Благодаря воспоминаниям близко знавших его современников, мы можем понять, что Федотов изначально, от рождения вряд ли был готов к роли героя «нашего времени». Сам он как-то раз заметил, что герой нашего времени не художник и не мыслитель, а воин, организатор и спортсмен. Но что поделаешь, если 1 октября 1886 года в Саратове в доме крупного губернского чиновника родился не будущий знаменитый форвард, а мыслитель и оппозиционер своими статями, притом довольно щуплый. То, что жизнь не любит слабых, Федотов понял ещё в интернате одной из воронежских гимназий, куда он был помещён по бедности семьи на казённый кошт.
В гимназии же начался его «роман» с социал-демократией. «Правдой социализма поправить мир» – от этой идеи он не отказывался никогда. В 1904 году Федотов по идейным соображениям поступает в Технологический институт в Петербурге. Ему, любившему латынь и греческую мифологию и ничего не понимающему в технике, нужно было стать инженером, чтобы приблизиться к рабочим и открыть им правду социализма. В этом он повторил С. Булгакова, который привязал себя по тем же соображениям к тачке политической экономии.
Известно, чем заканчиваются идейные увлечения. В 1905 году Федотова арестовали. Ночью в дом его деда-полицмейстера пришли жандармы и тихонько, чтобы не разбудить старика, увели внука. Ему грозила ссылка, но на либеральной волне и благодаря семейным связям её заменили высылкой за границу. Здесь, влекомый своим подлинным призванием, юноша изучает историю в Берлинском и Йенском университетах.
В 1908 году он возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где посещает семинар И. Гревса. В 1910 он вновь эмигрирует, а через год возвращается и живёт по поддельному паспорту. Затем его ссылают в Ригу. В 1914 году Федотов получает звание приват-доцента Петербургского университета.
...Философ так и не нашёл места в Советской России. Мучительно вызревает решение покинуть родину. Будущее за её пределами было очень неопределённым. Выезд омрачался тем, что друзья по религиозно-философскому кружку не поддерживали его в этом намерении: «Торчи, где воткнут». И всё же в 1925 году Федотов уезжает за границу, волею судьбы избежав трагической участи своих товарищей.
Под знаком какой из четырёх стихий построил свою жизнь Федотов? Ответ на этот вопрос даёт он сам: выполненный им портрет русской интеллигенции по существу есть и его автопортрет. «Беззаветно преданный народу, искусству, идеям – положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса.
Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой – святой беспочвенник (как и святой бессребреник) в полном смысле слова. Из четырёх стихий ему всего ближе огонь, всего дальше – земля, которой он хочет служить, мысля своё служение в терминах пламени, расплавленности, пожара».
«Огонь» – это «крест» социализма, который нёс на себе Федотов. «Земля» – православие, главное событие как в истории России, так и в жизни философа. Между ними «Молчание» и «Слово» самого Федотова; его сближение с русским студенческим христианским движением и отход от него, идея Нового Града и орден «Православное дело», и «Надежда» – лучшее слово человеческого языка. Так считал Федотов.
В 40-е годы он работает в Америке, пишет книгу «Русская религиозная мысль» на английском языке. Умер в 1951 году.
Он как-то заметил, что не может молиться о мирном скончании живота, что умирать надо на баррикадах или хотя бы под забором. Но не в кровати, не мирно. Баррикад у него не было, не было и забора. Однако было неизбывное множество борений ума и сердца.
Георгий Федотов – русский интеллигент. И рассказывая о судьбе интеллигенции, он рассказывает о трагедии своей души, история которой совместилась с историей самосознания Европы и России. Это тройное совмещение делает трагедию интеллигенции в изложении Федотова символичной. Трагедия русской интеллигенции, как и всякая драма, развивается в нескольких действиях.
.jpg)
«Социализм есть блудный сын христианства», – так полагал Федотов. При рождении этого «сына» – можно добавить – «акушером» была интеллигенция. «Покинув почву культуры, интеллигенция обживает мир действия, горизонты которого и сошлись в слове «социализм». «Ради этого слова, говорил Чернышевский, – не будет жалко и трёх миллионов голов» (заметим, сказанул задолго до Ленина-Сталина. – ред.). Автор рисунка: В. Буркин
Действие 1. Царское Село, или Распад души
Интеллигенция – это роковая тема, «ключ к пониманию России». Само её появление стало возможным, по Федотову, в результате распада народной души.
«Царское Село» – это время Новикова и Фонвизина, союза поэтов и «орлов-завоевателей». Это время имперских чувств интеллигенции, тех чувств, которые, видимо, испытал и Федотов в период своих евразийских увлечений. «Царское Село» – это не село-резиденция только, а символ распада русской души, то есть появление интеллигенции в России. У её истоков стоит царь Пётр I.
Если мы понимаем, что есть жизнь и есть ещё идеалы, отличающиеся от жизни, то на таком уровне понимания мы в круг интеллигенции не войдём. Ведь русский интеллигент – это человек, который жизнь подчиняет идеалу и за это подчинение готов идти на смерть. Идея для него – своего рода служба. Но драма состоит не в этом.
Идеи, которым он служит, созданы чужими усилиями, не его умом. А это значит в интеллигентском служении идеям изначально образовались пустоты, которые жизнью легко простукивались. Ведь интеллигенции нужно было быть на уровне идей, ею не созданных. Для того чтобы подтянуться к заданной планке, необходимо оторваться от почвы: от всего того своего, что вырастает, а не создаётся.
«Царское Село» – символ оторванности интеллигенции от народа, момент, когда её уже отнесло от берега, но она всё ещё держится, уцепившись за власть, за «грубую силу государства», прельщавшую даже Пушкина.
История души, продуктом распада которой становится интеллигенция, сменяется историей «имморального человека», по сути человека XX века. В контекст этих «историй» вплетается и нить судьбы русского человека.
Действительно... были русские, а стали советские. Не укладывается ли это «становление» в структуру пути к имморальности... Всматриваясь в лица энтузиастов первых пятилеток, Федотов никак не мог распознать в них дорогие ему русские черты. Возникла новая порода людей, в которой не видно не только универсального человека империи. В этой породе и от аскетического образа старообрядческой Руси ничего не осталось, не говоря уже о «вечевом» человеке Новгорода.
Распад души – вот главное событие XX века. Не революция, не открытие атомной энергии и, конечно, не теория относительности определили судьбу человека в нашем мире. А распад его души и энергия, освобождённая этим распадом. Была утеряна уравновешенность «пакостного» и «святого» в человеке. С цепи сорвались не только звери, но и ангелы, начав выделывать своё «незамысловатое па».
Даже мысль и искусство перестали быть делом личности и стали функцией государства. Для государства-зверя политика обернулась человеческой отраслью животноводства. Освободившееся животное начало человека пошло гулять по «газонам» цивилизации. И поэтому самая ходовая фраза современности звучит неброско: «больше цивилизации и цивилизованности». Разгулявшуюся «скотинку» нужно выдрессировать и приучить к работе.
Работник, производитель – «вот всё, что остаётся от человека». Люди перестали говорить с Богом, но зато в них проснулась жажда к ясновидению и экстрасенсорной чувствительности. Утолять эту «духовную» жажду подрядилось быстро размножающееся племя магов, чародеев и теософов.
По замечанию Федотова, современный человек по сравнению со старым Homo Europeus «несколько больше зверь, несколько больше дух, с ослабленными центрами рассудка и чувства». А так всё по-старому: те же глаза, нос, уши. Нет только души. Почему человек ведёт себя так, как если бы из него кто-то вынул стержень и он обмяк? Нельзя сказать, чтобы был человек слишком уж зол, но нельзя сказать, чтобы он был и слишком добр.
Ни добрый, ни злой, ни умный, ни глупый, то есть никакой... Федотов, воспитанный на идеалах личности, расцветшей в средние века, не мог не заметить, как на горизонте XX столетия появился новый тип людей, который ничем не руководствовался. Поступки были, а целей и мотивов не было. От имморального человека можно было ожидать всего. Всё возможно. Вот этим принципом и объясняется смерть души, что, согласно Федотову, есть не что иное, как смерть морали.
.jpg)
«Распад души – вот главное событие XX века». Этот распад, а не революции, открытие атомной энергии и прочие сенсационные вещи определили судьбу человека столетия. Распад души и энергия, освобождённая им. Была утеряна уравновешенность «пакостного» и «святого» в человеке. Автор рисунка: Л. Тишков
Действие 2. Арбат, или Имитация гуманизма
«Арбатские переулки» – это знак, по которому узнаётся новая резиденция русской интеллигентской мысли. Герцен и Белинский – поверенные этой мысли – находятся в оппозиции к «Царскому Селу». Здесь, в переулках, осуществился полный отрыв русской интеллигенции от национальной почвы. Ничто уже больше не держит её у родных берегов. Сорвало и понесло в никуда, как уносит ветром перекати-поле.
«Очаг чистой мысли» образует мир, гражданином которого она становится. На Арбате достигнут «предел законной европеизации» русской культуры. Разогнавшись, трудно остановиться, и интеллигенция выходит за этот опасный предел. А там западничество русской мысли превращается в «бесплодное и косное твержение задов».
Именно в арбатских переулках была выношена манихейская идея о существовании тёмного и светлого миров. Светлый мир – это демократия и равенство, в тёмном мире растут цветы зла: религия и национальное чувство. Светло в Европе, темно в России. Если тьму что-то и рассеет, то это свет от солнца, которое взошло на Западе.
В России, как и в любом другом уголке христианского мира, столь же света, сколь и тьмы. Но по правилам игры в светлый мир демократии, свободы и мысли (а позднее и социализма) можно было войти лишь ценой отказа от национальных и религиозных чувств. Всякий, кто поднимал руку на атеизм, рисковал ударить по мысли, выступая за сохранение культурных традиций, мешал демократии и оказывался реакционером.
Чувство свободы и патриотизма не вмещалось в душе русской интеллигенции. Вот эта несовместимость лежит в основе имитаций гуманизма и, следовательно, в основе гибели гуманистической культуры, описываемой, как правило, в терминах различения культуры и цивилизации.
Культура в России традиционно мыслилась в оппозиции к цивилизации. Утверждая, что она гибнет, Федотов, думается, должен был рассказать о том, что же происходило в этот момент с цивилизацией. Может быть, нам хватило бы гуманной цивилизации? Ведь культура погибает, а цивилизация шаг за шагом повышает свой уровень, и каждый этот шаг превращается в праздник. «Розовые щёки» рабочей силы цивилизации продолжают розоветь и в эпоху гибели гуманизма.
Да так ли он нужен этот «гуманизм» и эта «культура», если их гибели никто и не заметил? Вот эта-то «розовость щёк» при полном отсутствии лица и составляет для Федотова загадку.
Действие 3. «Екатерининский канал», или Беспочвенная идейность
Канал просвещения, построенный во времена Екатерины II, в середине XIX века был заполнен разночинцами. Отныне линии культуры и интеллигенции расходятся. Дело интеллигенции – революция. Культура – органическое образование, она существует там, где для этого есть почва. Цивилизация беспочвенна.
Покинув почву культуры, интеллигенция обживает мир действия, горизонты которого сошлись в слове «социализм». Ради этого слова, говорил Чернышевский, не будет жалко и трёх миллионов голов.
Непонимание между людьми культуры и интеллигенцией коренится в беспочвенной идейности последней. Интеллигенция возникает как предводительница в привилегированном слое «видящих истину». Пока в мире существует хоть один человек, которого ведут к истине, будет существовать и интеллигенция. В определении интеллигенции обнаруживается скрытое родство её с партией или сектой.
Институт же партийности делает её практически ненужной, да и не возникает она в партийно оформленном обществе. Невозможна она и при живом Боге. Тайна происхождения интеллигенции в смерти Бога и волевом единстве жизненного потока. Иными словами, её существование проблематизируется, с одной стороны, существованием идущих к Богу, а с другой – идущих к справедливости. Одних ведёт церковь, других – партия. Интеллигенции вести за собой некого...
В Петровскую эпоху уже не удивляли люди, души которых были русскими, а головы – немецкими. Народ продолжал жить в одном целом, а его мыслительная субстанция складывалась по законам другого. Разрыв истории определил на два столетия «кентаврическую фигуру» России.
Афина восстала против Геи и этим восстанием нарушила естественный ход событий. Надолго, если не навсегда, исчезла органическая связь разума и земли, то есть та связанность, при которой никто не может отсидеться в какой-нибудь тихой заводи культуры, но и никто не может сказать, что он ведёт и за ним идут.
Федотовская формула определяет русскую интеллигенцию как группу людей «объединённых идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».
.jpg)
В Федотове можно увидеть много от трагического пророка. Но, как бы там ни было, слово «Надежда» он считал лучшим словом человеческого языка. Этот «нерв» его философии созвучен поэтическим строчкам Фета: Я не ропщу на трудный путь земной. Я буйного не слушаю невежды: Моим ушам понятен звук иной, И сердцу голос слышится надежды.
Действие 4. Таврический дворец, или Свобода недостойных свободы
Путём радикального упрощения интеллигентского сознания создаются сознательные пролетарии, в головы которых никак не могла поместиться огромная Россия. На пути упрощений возникает новая демократия, и место её заседаний – Таврический дворец. Государственная дума пародировала парламент, царь играл роль президента. В среде интеллигенции тоже происходили изменения. Рахметовых заменил Санин. Россия знакомилась со свободой.
Тема свободы для русского человека исчерпывается словами Розанова – «гуляй, душенька», – гуляй без всяких прав и демократий, без партий и конституций, гуляй, милая, а вечером не забудь зайти к Богу. Но если нет Бога, а «гуляй» остаётся и желающих погулять много? Тогда, по словам Федотова, начинается мучительное размежевание воли и свободы.
О чём мечтает русское сердце? Нет, не о свободе – о воле. Свобода – синоним распущенности.
А вот воля – совсем другое дело. Если европейский человек говорил «нет» и становился бунтарём, то в России бунт начинался со слов «была не была, гуляй, душенька», и этими словами развязывалась вяжущая связь культуры. Разбойник – идеал воли, которая осуществляется скорее в кочевном быте, в цыганщине, в разгуле, чем в культурном общежитии. Тирания и бунт вольному человеку гораздо ближе, чем социальные реформы и добропорядочный консерватизм.
Для того чтобы совместно существовать, людям нужно допустить в свой круг некоторую порцию лжи, строго соблюдаемой условности. Свободный человек принимает ложь как необходимость соблюдения приличий, то есть необходимость быть с лицом. Вольный же человек не приемлет культуру общежития из-за её изначальной заражённости ложью. Свобода слишком многословна. Она утомляет... Между молчанием и бунтом проходит жизнь вольного человека.
Свобода никогда не выбирается по доброй воле. Её принимают поневоле, когда исчерпаны все аргументы «против». Свобода – это зло, с которым приходится мириться. Пока же от неё можно увильнуть, пока человек не загнан в угол, он не согласится на свободу и останется «мытарем» воли.
Для того чтобы сохранить своё лицо, своё достоинство, человек способен на многое. Из необходимости, из неизбежного зла он сделает добродетель. Свобода – это смирение, а свободный человек – это человек, «обломивший» своё «Я», которое с некоторых пор начинает существовать, как объезженная лошадь. Смирись, гордый человек, с фактом существования тобою ненавидимого в тебе самом, и ты пойдёшь дорогой свободы.
В условиях свободы и на дереве зла вырастают цветы добра. Свобода потому и практичнее силы, что она заставляет бессовестных людей придерживаться совести, недобродетельных людей делать добро, нетерпеливых терпеть.
С тех пор как в России расцвёл цветок свободы, русских философов стал преследовать кошмар злого добра. Тема антихриста не давала им покоя. Зачем нам добро, если оно может держаться только на правовых крючках? Что нам делать со свободой, если условие её – соблюдение гримасы лжи?
Действие 5. Кремль, или «Блудный сын христианства»
По Федотову, Кремль, заполненный большевиками, – один из возможных способов преодоления интеллигенции. С ней произойдёт странная метаморфоза. Многие интеллигенты найдут свою почву в новом мещанстве, в накоплении, в пафосе американизма. Рынок, собственность и капитал – вот новые предельные точки их самосознания.
Западничество становится народным, отрыв от национальной почвы – национальным фактом. Рост буржуазного сознания на том пустыре, где когда-то стояла русская интеллигенция, делает мыслимым заигрывание социализма с христианством. Интеллигенция – это исторически неудачное слово для обозначения категории работников умственного труда в буржуазном обществе.
«Социализм есть блудный сын христианства». Федотов сближает дело Бога и человека в одно богочеловеческое дело... На этом пути находится место и социализму, то есть обновлению общества, дополняющему обновление личности... Христианский социализм не приходит вне зависимости от человеческих усилий. Эти усилия направлены на пересмотр относительных ценностей. Для христианского социалиста нет различия между новыми и старыми принципами устройства общества. Есть вечные ценности и относительные.
Федотов отмечал какую-то болезненную страсть русских интеллигентов к перемене вечных истин и небрежение относительными: у защитников народа не нашлось ни одного слова в защиту хозяйства и личной инициативы. Презрение к хозяйству объединяло пролетариев и интеллигентов в симпатии к социализму. Любовь к социализму – есть превращённая форма нелюбви к хозяйству.
Христианский социализм Федотова – это путь примирения народа и интеллигенции, который, к сожалению, так и не обрёл корней ни в народе, ни в интеллигенции.
Эпилог. На борту парохода, отплывающего за границу, или «Гордый» человек звучит горько.
В мире есть добро, да нет добрых людей; есть знание, но нет знающих... Нет тех, кому вменяется поступок, то есть нет морали. Пусто. Страх перед пустотой заставляет всех плотнее жаться друг к другу. Во время сжатия рвутся традиционные связи, кровные союзы. Как грибы вырастают партии, общества. Миром правит масса. Современный человек, описываемый Федотовым, – это человек, обретающий себя в этих компактных общностях. В них он находит свою идентичность. Символом нового человека был для него Максим Горький.
Новым людям не нужна свобода. Современный человек предаёт её на каждом шагу. Угрозу для свободы ждали от генералов и королей... Она пришла не с той стороны. «Свободу разрушает восставший народ». Массы, как кочевники, ворвались в историю и натворили в ней много бед. Удушение свободы – одно из них. Но первыми предали свободу не массы, а интеллигенция. Ведь «форма мышления массового человека, в общем, не отличалась от мышления интеллигента».
Таков горький итог размышлений Георгия Федотова о роковой доле русской интеллигенции, о человеке XX века, поставившем себя вне морали. О России, потерявшей себя.
Фёдор Гиренок. Авторский дайджест
Ещё в главе «Личность — культура — ноосфера»:
Роковая тема Георгия Федотова (Трагедия о России)
