Пролегомены к курсу практической теории. Прекращения конца света
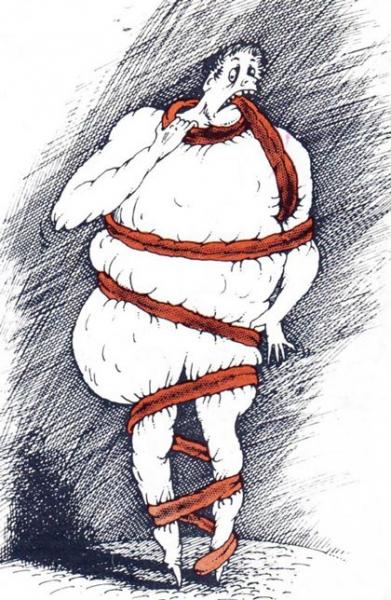
КРИЗИС ОСТОЧЕРТЕЛ
Революции опротивели. Вот и в «Социуме» появился дайджест статьи В. Горяйнова «Не дай себе сойти с ума», обучающий противостоять кризису, поддерживать нормальное поведение. Хорошо бы только знать, ЧТО ЕСТЬ НОРМА? (Если переиначить этот же вопрос – ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?) Человек, к несчастью или к счастью, анормальное животное, животное иррегулярного поведения, и такое собственно человеческое поведение... вызывается кризисом.
Скажу даже так: кризис для человеческой жизни – норма. Кризис в социуме есть всегда. Не всегда его заметишь. Часто главная проблема – обнаружить его. Но уж если он очевиден, прятать голову под крыло опаснее, чем ослиные уши под колпак, например, дурацкий. Я не полемизирую с В. Горяйновым. Содержательно он вполне прав.
Дело лишь в омонимии терминов.
Есть «кризис», как его понимают обывательские массы и mass media, и есть «кризис» – термин риторики, причём не всякой (в классической риторике этот термин мало у кого встречается и даже в «Риторике» Аристотеля системообразующей роли не играет), а риторики поступка, эра которой, я надеюсь, наступает на нашей истерзанной Земле.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Немного этимологии.
По-древнегречески кризис означает «рассмотрение, суд», то есть нечто, если не прямо противоположное «нашему» пониманию, то уж принципиально другое. Для «нас» кризис – это процесс, который пошёл-пошёл... и вот ему идти уже некуда и пора бы разрешиться. Это такая болезнь, хорошо бы если не смертельная, что-нибудь вроде беременности... Детерминистски-объективистский подход.
Древние греки были людьми самонадеянными. Они даже наивно думали, что человек – мера всех вещей, а не наоборот. И соответственно подходили они к кризису – грубо по-человечески, так сказать, невзирая на Абсолют (по верному замечанию Андрея Фурсова).
Для древних греков не то кризис, что, например, все рабы повально белой горячкой заболели (это просто «объективная реальность, данная им в ощущениях»), а то, что требует риторического рассмотрения, обсуждения. Даже больше – само словесное обсуждение. Судите процессы, да не судимы будете этими невыясненными процессами. Гордые люди. Прямо герои, хотя, как утверждают их исследовавшие, и без совести: если что брали судить, то это и есть кризис; а о чём судить нельзя, на то воля богов – и точка.
Да, древние эллины были риторицентричны! Всё важное в жизни подлежало их речевому кризису. Сойдутся ли на агоре, Сократ ли соберёт вокруг себя Платона с прочими пролетариями умственного труда – и предаются кризису. Да и что им, бессовестным, делать – рабы работают, свободные рассуждают.
.jpg)
.jpg)
Конечно, ситуация наша сложнее. Удобное общественное разделение труда на рабов и свободных у нас нарушилось. Свободных практически не осталось: кто не работает, тот не est. Поэтому судить кризис приходится рабам. А рабы что рыбы немы, и даже когда кричат, молчат (cum clamant tacent). Впрочем, теория социальной эсхатологии в «Социуме», как всегда, в конце номера. А здесь ограничусь тезисом: РИТОРИКА ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНЦА СВЕТА В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ СОЦИУМЕ.
Если люди научатся вести кризис экономически и экологически («эко» от oikos – «дом», а риторика поступка и даёт свои рекомендации для частного дома), то есть сумеют наладить общение в ближнем кругу, то будет шанс эти малые социумы объединить и в большой круг. В такой последовательности приоритетов: публичная частность, потом частичная публичность, классовость, народность, государственность, странность, мирность...Чтобы в истории человечества нам самим когда-нибудь стать древними, нужно уже сегодня «превратиться в грека», но не полисного, а домашнего.
Риторика – это кризисное домоводство, техника безопасности совместной речевой жизни. Цель её – облегчить людям общение. Если же учесть, что без речи собственно нет жизни («А молчание?» – «Отсутствие знака тоже знак») и речь – специфически человеческая реакция на кризисный процесс жизни, то к слову «общение» излишне добавлять всякий раз эпитет «речевое». («А психология?» «Психология как наука вышла из риторики – это раз. Психология пытается вывести нечто объективное об индивидуальной душе, риторика же в душу не лезет и обобщает экстерриториальные продукты её – это два. А в-третьих, наша отечественная психология во многом лишь псевдоним изъятой из реестров риторической дисциплины...)
.jpg)
ИТАК. ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОУЧИТЬСЯ НОРМАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ... У КРИЗИСА ЖИЗНИ? (1)
Махов. ...Когда мудрым варварским скифам приходилось принимать неочевидные решения, они делали это в два приёма. Первый день пили – ели – гуляли (то есть вводили, в твоей, Пешков, терминологии, игровую ситуацию общения). Ну и не молчали, конечно. А рабыни записывали всё, что они говорили.
Пешков. А назавтра на трезвую голову читали записи и, впав в деловую ситуацию (судебную или совещательную), принимали решение, не так ли? Я, правда, всю жизнь считал, что это германский метод, но, думаю, здесь имеет место универсальная эвристика. Кстати заметить, вряд ли этот благородный обычай прижился бы у скифов, используй они для создания игровой ситуации, скажем, портвейн «Агдам» – это завтрашнее похмелье сегодня...
.jpg)
Немотина-тягомотина. Фигуры «различных профессий» советских людей на крыше библиотеки им. В. И. Ленина
Махов. Оставь в покое шуточки, тем более не ты эту «остроту» придумал. Я хочу серьёзного финального разговора...
Пешков. Конечно, мы ведь в ситуации глубочайшего кризиса. Но даже теперь, в перерыве течения обыденной реальности, где-то в глубине души верим, что наша обыденность не прервалась и продолжает течь в ином измерении и что мы в неё вернёмся из чужого и неуютного. И скажем: «Это было как сон».
Махов. В эпоху барокко почему-то применяли понятие сна как раз к обыденному – «Жизнь есть сон» Кальдерона.
Пешков. Смена ментальности. Тогда человек воспринимал жизнь как сплошной кризис и верил, что он решится в течение иной, устойчивой реальности. У Грасиана есть даже роман, в котором главы так и называются – «кризисы»... А мы как кризис воспринимаем всё инобытовое, инообыденное. Мы очень хотим вернуться, и если миф – это рассказ о вечном возвращении, то мы очень мифологично мыслящие люди. Правда, дело не столько в том, как мы мыслим (тут сфера интимная, не для посторонних), а в том, как мы изобретаем нашу речь. Даже не столько, как изобретаем, сколько – как изобретённое разрешает кризис тупого молчания в общении.
Махов. Почему «тупого»? Молчание – мудрое...
Пешков. The rest is silence – это мудро, молчание философа – тоже. Но если мы все сейчас замолчим, наступит полный маразм. Молчание – та же сущностная смерть, которую нужно преодолевать.
Махов. Речью?
Пешков. Риторикой. В чём бы она ни выражалась. «Витийство телесное» (как назывался раздел в старых учебниках красноречия) – такая же риторика. Жесты в иные моменты могут значить и действовать сильнее, хотя слово как сугубая система смысла, конечно, центр всего.
.jpg)
Автор рисунка: М. Ларичев
Махов. Сугубая?
Пешков. Да, в устаревшем значении слова. У Гнедича оно значит «двойной». Слово усугубляет в нас все виды смысловыражения и смыслопорождения. Эта вторичная передача нас другому не совсем адекватна оригиналу (чувству, жесту, мысли и тому подобному), но она незаменима. По крайней мере в европейской культуре.
Махов. Но вернёмся к кризису.
Пешков. Скорее в кризис. В 1991 году мы прошли два кризиса: кризис нарушения (судебный) и кризис обновления (совет), но не было главного – кризиса существования, а это уже игровой кризис. Но теперь не мы играем миром, а он не на шутку разыгрывался у нас под ногами. Новалис в «Духовных песнях» говорил: «Ein Gott für uns, ein Kind für sich» – «Бог – для нас, Дитя – для себя». Теперь мир постарел, но не утратил способности к игре. Играющий старик – не гнусное ли зрелище?
Махов. Как уверяют обрушившиеся на нас лавиной пособия по сексуальной революции, ничуть не хуже, чем беременная старуха, любимый образ Средневековья и Возрождения.
Пешков. Ты хочешь сказать, что мир играет не последнюю игру?
Махов. Не знаю. Но, во-первых, старость не есть синоним скорой смерти, во-вторых, наш век прошёл под лозунгом «Коммунизм – это молодость мира» – и что? Да и сексологи утверждают, что старик и юная дева очень подходят друг другу по физиологии...
Пешков. И по риторике. Дева хочет слов, цветущих и пышных. Постель из слов и постель в словах. Любовь через слово приводит к эротической любви. Облако слов скрывает плотскую сущность двоих, как бы растворяет её, делает проницаемой для другого.
Махов. Словесное дело – в силу своей обратимости – иллюзорно, лишено сущностного основания. Выстраивается цепь: речь – игpa –иллюзия. Людвиг Витгенштейн рассматривал словесные действия как игры. Иммануил Кант указал на этимологическую связь понятий игры и иллюзии. Есть способ придать речевому действию необратимый характер: устранить себя, носителя речи, из жизни. Такое посмертное слово, конечно, дело, может служить мощнейшим антикризисным средством. Христос обескровливается, теряет плоть, чтобы доказать свою любовь ко всем людям. Или чуть изменим некрасовское: «...дело прочно, когда под ним струится кровь».
Пусть будет не «под», а «в нём». Не развоплощённый, а воплощённый Логос, подтверждённый не смертью, а живой ответственностью личности. Во всяком случае ясно, что кризисную ситуацию к лучшему может изменить только ответственно-личностное, «необратимое» слово. Но тут возникает логическое затруднение, связанное с умножением терминов. Свою ответственность за слово личность может подтвердить только словом, которое также должно быть подтверждено также подтверждённым словом и так далее.
...Между личностью и ответственным словом пролегает бесконечность (словесно непреодолимая) последующих терминов. И никакие заклинания Бахтина о «смирении до персональной ответственности» не помогают. Как быть?
Пешков. Скажу. Но не об этой пресловутой пропасти, выстроенной на основе классической риторики познания из формально-логической паутины терминов. В таком отвлечённом от реального оратора круге общения слово лишается полнокровной ответственности и дело кончается кровью (по поводу взаимного недопонимания сторонами «высших» абстракций). Кризис есть форма существования жизни. Его нельзя решить одним словом, его надо решать словом за словом. В малом круге общения и твоя ответственность проверится очень просто, и твоя казуистическая техника отступления от сказанного будет легко расшифрована.
Игорь Пешков
***
1 – «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – в нашей ситуации прозвучало бы слишком двусмысленно, и всё же... Игорь Пешков предлагает вам стать свидетелями его «кризиса» (на тему кризиса) с постоянным соавтором А. Маховым и в порядке самотестирования найти в диалоге центральные риторические термины.
Ещё в главе «Жизнь - слово - дело»:
Пролегомены к курсу практической теории. Прекращения конца света
