Оправдание духовного максимализма (размышления о судьбе суверенного интеллигента)
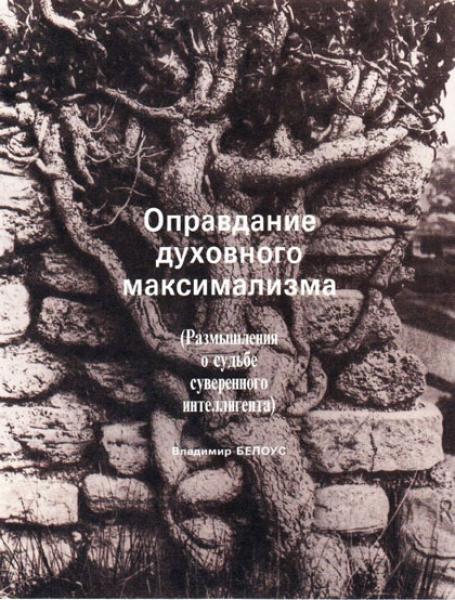
Вы – соль земля. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёной?
Мировоззрительный бунт
Что за необыкновенная эпоха – начало века – время общественного и индивидуального, политического и мировоззренческого самоопределения! Многовековые условия человеческого существования оказались под сомнением и были подвергнуты критическому осмыслению. Духовные, идеологические, национально-государственные, религиозные, этические традиции и нормы, до определённого исторического момента сдерживавшие и поддерживавшие интеллект и моральные установки личности, неожиданно отодвинулись в дальний угол. Так внезапно в привычную, строго размеренную жизнь людей вошёл бунт индивидуальности.
Судьба выдающегося литературного критика и публициста Разумника Васильевича Иванова (псевдоним Иванов-Разумник: 1878–1946) – российское подтверждение этого духовного переворота. Духовный максималист по своей природе, он фигура на литературном и общественно-политическом горизонте своего времени одинокая и трагическая. «Шёл в комнату, попал в другую, – так, вслед за грибоедовской героиней, не раз иронически повторял Иванов-Разумник и добавлял: С кем не бывает».
С полным основанием он относил эти слова и в свой адрес. Студент-математик Санкт-Петербургского университета, одновременно проходивший курс историко-филологического факультета; литератор, примкнувший к идеологии народничества и воевавший всю сознательную жизнь с марксизмом; публицист, не занимавшийся политикой, но, пока была возможность, высказывавшийся по основным социально-философским вопросам своего времени с той принципиальной высоты, которую именовал мировоззрительной. Главным содержанием жизненного пути Иванова-Разумника стала не литература, не политика, не творчество, а сама жизнь.
Индивидуальный творческий опыт и трагическая судьба, разделившая судьбы миллионов (не тома, а лучшие люди тысячами гибли и гибнут. О томах ли думать!), казалось бы, эту коллизию можно описать как трагическое столкновение личности и среды, индивидуальности и тоталитарной власти с упором на внешнюю сторону этого перманентно повторяющегося конфликта. Но в том-то и дело, что в данном случае наиболее интересным и важным оказывается экзистенциальная конкретика обретения того, что называется смыслом жизни.
Смыслотворческий поиск начинается с того, что личность адресует самой себе простой вопрос, зачем живёт человек, в надежде отыскать столь же простой и всеобъясняющий ответ. Но есть простые (и вечные) вопросы, и нет лёгких ответов.
Не ответы ясной успокоенности, но вопросы бурного беспокойства, и в них – весь ответ. На проклятые вопросы дай ответы нам прямые! – требование равнинное. Прямые ответы – самое ненужное дело в мире.
На вершинах гор все прямые перспективы и горизонты смещаются, «над» становится «под», ответы становятся вопросами. Теоретический поначалу вопрос о смысле жизни, где, казалось бы, главное в смысле, оборачивается суровыми жизненными испытаниями.
Подлинный философ, духовный максималист, должен оправдать свою теорию жизнью и творчеством: здесь Родос, здесь и прыгай.
.jpg)
Иванов-Разумник
Инакомыслия своего не скрывал
В глубоко исповедальном письме Иванова-Разумника А. Блоку от 20 сентября 1918 года есть такие строки: «...Мне здесь глубоко враждебны самые разнообразные линии повеления: и либеральный прогресс с позитивным человекобожием, и коммунистическое человечествобожие, и всяческое богобожие.
Ибо все они, безмерно разные, сходятся в одном: да будет воля Твоя (кто бы ни был для них Он). Я же хоть и не хочу заявить своеволие, как Кириллов, ибо мир приемлю, ибо чувствую даже, что Он и есть Я (и я), то есть знаю чувство Сыновства, но не могу быть и раскаявшимся блудным сыном, для которого заколают тельца. И если даже сам я когда-то предопределил пути... то теперь, будучи человеком (пусть и не только человеком), я этой гармонии не приемлю и почтительнейше билет возвращаю. Принимаю мир, не принимаю бога (в себе же!) и в этом месте – да будет воля моя.
Отсюда признание слабого, смертного, только человека – за последнюю ступень моего пути: «и есть иль нет дороги чрез гроба – я был, я есмь! Мне вечности не надо!» И здесь – я не сдвинулся ни на волос от книги «О смысле жизни», которую писал ровно десять лет назад. Наоборот, чем больше верю и знаю я, что мы не только люди, тем твёрже буду я только человеком».
Оправдание человека – главная цель духовного максимализма Иванова-Разумника. Он задаётся вопросом, могут ли несчастья и муки индивидуумов иметь смысл и оправдание в том общем интересе, на котором зиждется исторический процесс.
Ответ Иванова-Разумника однозначен: нет, не могут; не существует пресловутого общего интереса, которым можно было бы оправдать бессмысленность человеческой жизни. Только сам человек, его деятельность, его экзистенция могут стать основанием для смысла, а значит, и оправдания жизни.
Собственную мировоззренческую и партийно-политическую ориентацию Иванов-Разумник определял как ситуацию киплинговской кошки, которая гуляла сама по себе.
Политическое неприсоединение, воззренческая принципиальность – эти качества духовного максималиста проявлялись на протяжении всей жизни Иванова-Разумника. Ещё в 1912 году он избрал себе псевдоним Скиф. Его духовный учитель, А. И. Герцен, скиф прошлого девятнадцатого столетия. (1)
Духовный максималист, Скиф и в революционную эпоху выбирает вечное: вечные ценности, вечное странничество, вечный поиск. Духовный максимализм – вечная революционность (для любого строя, для любого внешнего порядка), вечный поиск непримирённого и непримиримого духа.
Стрела Скифа нацелена на всесветлого мещанина, в какие бы идеологические, государственные или национальные одежды он ни рядился, ибо мещанин своим всеобщим идеологическим нормотворчеством (не важно каким: либеральным, народническим или же коммунистическим) стремится подмять под себя человеческую личность, а затем и уничтожить.
Бунт духовного максималиста есть бунт личности против любой общеобязательной мировоззренческой системы, навязывавшей и навязывающей человеку так называемые правильные ответы вместо смыслотворческого поиска.
Духовный максимализм – это сила, принимающая критический огонь на себя, но тем самым обнаруживающая лживость современных правил игры. «Измы» для Скифа – мертвы, они должны уступить свято место освобождённому индивидуальному сознанию, индивидуальным верованиям, индивидуальным смыслам – в этом главная задача грядущей революции духа. За государством, церковью, цивилизацией, культурой, национальностью всегда претензия на всеобщность, общеобязательная норма. Скиф же выступает как разрушитель этих политических и идеологических обманов, отвращающих человека от самого себя ради иллюзорной всеобщности и нормативности.
Удел духовного максималиста – одиночество. И это важнейшее условие независимого, интеллектуально обособленного (ибо субъективного) состояния личности. В этом одиночестве сила, поскольку оно предполагает умение человека держать житейские и идеологические удары, не опускаться до мелкой склоки, постоянно выдерживать раз и навсегда установленную мировозрительную высоту.
В нём и последовательность собственного максималистского выбора, согласно которому последнее слово философии одиночество, и, одновременно, готовность признать за оппонентами права на собственную правду: центр моей мысли в том, что я допускаю существование убеждённых черносотенцев. Лучше иметь достойных противников, чем изрекающих пустые слова и поддакивающих собеседников.
Максималист не рассуждает, он проповедует. Там, где заканчивается свободное самосознание (философия), начинается проповедь: проповедник свой мир ореховой скорлупы считает вселенной, а вселенную замыкает в ореховую скорлупу теории, императива, нормы. Скиф вне всяческих рамок: критическая стрела его пронзает любую идеологическую нежить, но в своём отрицании нормы он стремится ни больше ни меньше как... к абсолюту – вот в чём суть духовного максимализма. Избежать середины, обязующей к недеянию, уйти от повиновения и ненависти к творчеству!
Хождение над бездной
Где и когда совершается у Иванова-Разумника тот скачок от свободного философствования к проповедническому слову, от исповеди к проповеди? По времени ясно: это 1917 год. Может быть, именно в революционную эпоху индивидуальное сознание начинает полагать провозглашённые им принципы общезначимыми и общеобязательными?.. Действительно, и философия, и проповедь – это не столь уж и отделённые друг or друга стадии смыслотворческой деятельности.
Самопознание не может продолжаться до бесконечности, иначе оно превращается в самокопательство, доводящее личность до внутреннего абсурда. Переход из одного качественного состояния в другое происходит из-за перенасыщения сознания. Вечный поиск, понимаемый как вечное блуждание по неведомым дорожкам, возможен ли, ведь ищешь ответ лишь до тех пор, пока не обретаешь его...
Проповедует же человек, знающий правильные ответы. По крайней мере, создастся впечатление, что в 1917–1918 годах Иванов-Разумник обретает истину. Так рождается Евангелие от Иванова-Разумника:
«Новая вселенская идея вопрошает ныне в мир через отсталую, некультурную, тёмную Россию, подобно тому, как и двадцать веков назад христианство зародилось в тёмной, некультурной, отсталой Иудее, а не в передовом, культурном, блестящем Риме. Это не значит, что правы славянофилы, что мы богоизбранный народ, что победили многоимённые Хомяковы, неустанно восторгавшиеся нашей богоизбранностью.
Ряд исторических, экономических, социальных причин сделали из России первую арену действия нового вселенского Слова, но скоро и весь старый мир перевёрнут будет до своих оснований этой новой мировой идеей. Тут нет места для народной гордости, тут есть место лишь для всечеловеческой радости».
Проповедь не панацея от всех бед и не индульгенция от возможных ошибок. Проповедующий, взяв на себя тяжёлый крест, который обязуется нести до последнего, до самой смерти, должен знать и о главной из опасностей этого пути: навязывании своего индивидуального мировидения общественному самосознанию. Как только философ становится на путь навязывания социуму каких бы то ни было личных или общезначимых истин, участь его двояка: от абсолютного признания до полного неприятия.
Проповедь духовного максимализма, скифства, была встречена представителями враждебных политических и идеологических группировок как полностью неприемлемая. Позицию победителей большевистской критики выразил журнал «ЛЕФ»: «идеалистический уклон, мистическое восприятие революции».
Антибольшевистская критика углядела в проповеди духовной революции оправдание настоящего, осанну большевикам и их варианту общественного развития.
Спустя четверть столетия Иванов-Разумник признается: «Как мог я, всю свою литературную жизнь боровшийся с русским марксизмом, да ещё в лице самого умного его представителя Георгия Плеханова, как мог я на минуту поверить в возможность хотя бы временного пакта с большевизмом...»
* * *
Учитель нуждается в учениках, последователях; от одиночества, столь желанного вначале, он стремится к духовной общности в надежде, что хоть здесь, на малом пространстве, удастся воплотить то желанное, что не свершилось на огромном пространстве России.
Экспрессивная, экстатическая тональность проповеди, сопутствовавшая большинству литературных выступлений Иванова-Разумника на протяжении года революции, естественно, должна смениться другой – аналитической и спокойной. Проповедь возвращается в лоно свободного, вольного философствования. Так рождается в 1919–1924 гг. Вольфила – Вольная Философская Ассоциация.
Вольфила загадочна, романтична, утопична. Это скорее мечта о соборном воплощении культурных исканий, нежели их действительное утверждение. Но голоса умолкли, стенограммы уничтожило или уничтожает время, и теперь только с величайшим трудом можно понять, что же заставляло этих людей, прорвавшихся сквозь полотно революции за нарисованный очаг, сотканный из надежд, упований и мечтаний (имя которому духовная революция), организовать новый театр, собираться вместе и... вольно философствовать?
Выступая в 1920 году на одном из заседаний Вольфилы, Иванов-Разумник говорил: «Нашу эпоху нельзя не назвать великой эпохой, во всяком случае эпохой великих начинаний. Как бы нам ни казались трудны будни, мы из-за будней не можем забыть дней революции прекрасное начало. И в нашу эпоху на поприще ума нельзя нам отступать, нужен живой обмен мнениями, и как раз того же характера, который был нужен в эпоху расцвета гуманизма. Очень часто мы неудовлетворены, недовольны собой, но мы живём и дышим революционным воздухом времени, тем только духом, в котором есть животворящее начало».
Цель всё та же – понять себя, осмыслить происшедшее, отыскать собственные корни. Вот почему Вольфила обращается к блестящим пророчествам Герцена, религиозному социализму Достоевского, к неославянофильским построениям К. Леонтьева и эсхатологии В. Соловьёва... В центре работы самосознающей мысли идея духовной революции: что же всё-таки произошло с Россией и революцией?
«Для меня, конечно, начало конца революции совпадает с Брестским миром, то есть когда революция не выдержала определённых требований долженствования, которые к ней предъявлены, когда она пошла на компромисс с реальной политикой, и дальше она идёт к концу своему...»
Если духовная революция как надежда в прошлом, а как вера в будущем, то здесь, в настоящем, её должна заменить идея нового, соборного культурного поиска. Культура всегда форма духовного сопротивления и самосохранения духа, особенно в условиях несвободы. Выработка нового человеческого сознания – вот что, по замыслу Иванова-Разумника, могло бы объединить самые разные мировоззренческие устремления в эпоху невероятных событий.
Подвиг распятого миросознания
Новые времена наступали не сразу; приступами брали они одну природу за другой, и каждый раз люди, проснувшись, узнавали, что в духовной атмосфере эпохи (словно необратимые климатические изменения) происходят разительные перемены. Когда портится погода, мы пребываем в полной уверенности, что это ненадолго; день, другой, третий – всё переменится, и, конечно же, к лучшему. Но проходил день, другой, третий, а ситуация только ухудшалась, тучи сгущались: наступали времена не только новые, но иные.
В 1924 году была закрыта Вольфила, годом позже, после выхода книги о вершинах символизма А. Блока и А. Белого и сборника «Современная литература», Иванова-Разумника отлучили от советских издательств, запретив высказываться о современности.
Одни были изгнаны из Отечества, другие предпочли самостоятельно разорвать свои отношения с жизнью. В чёрный список изгнанников 1922 года он не попал (из участников заседаний Вольфилы там оказались А. Штейнберг, П. Сорокин. Н. Лосский, Л. Карсавин); сам же лично он никогда такого желания не проявлял. Хотя, вероятно, возможность эмиграции была ещё в 1921 году. Но вне Отечества он себя не мыслил.
Другой выход – самоустранение. И на этот счёт он неоднократно высказывался отрицательно.
Что же за атмосфера окружала российских интеллигентов, связавших свою судьбу с судьбой Отечества?
Конфликт между личностыо и Левиафаном советской общественности нагнетался постоянно, но слишком уж неравными оказывались силы. Сначала творческие ограничения, затем материальная нужда.
Линией поведения духовного максималиста в условиях тотальной несвободы становится молчание. Если историческая эпоха предъявляет невыносимые требования к личности, надо молчать и терпеть. Молчание вовсе не означает прекращения смыслотворческого диалога с собственным временем и близкими по духу людьми, но перевод её внутрь индивидуальности. Молчание реальное и, может быть, единственное оружие личности, обращённое против античеловеческой тоталитарной власти.
* * *
В ночь со 2 на 3 февраля 1933 года Иванов-Разумник был арестован по обвинению в организации народнического центра.
Тюрьма что могила: всякому место есть, гласит старинная русская мудрость. Скифу, духовному максималисту, отрицающему любую власть, работающему не для настоящего, но для вечного, место в казённой квартире забронировано самой судьбой. Если жизнь устроена так, что расставляет повсюду ловушки, проверяя интеллектуальные декларации на предмет их подлинности, то тюрьма, вероятно, не самое последнее место для подобного рода испытаний.
Тюрьма та же модель жизни, скорее генная её копия. Здесь есть свои герои, свои мученики, свои иуды; человеческие свойства проявляются в этих экстремальных, нечеловеческих условиях предельно откровенно и масштабно. Но одновременно тюрьма – это опыт полнейшего, завершённого максимализма; одиночество достигает здесь своего предела: у каждого подследственного собственное дело и индивидуальная судьба. Человек остаётся наедине с самим собой, даже будучи окружённым сокамерниками, охранниками и следователями.
Выбор (о котором так много рассуждали западные экзистенциалисты и который для наших соотечественников был вполне тривиальной реальностью) заключался в следующем: либо до конца, продолжая свой персональный бунт, сохранить свою суть, либо своё существование, отказываясь от самосознания. Как ни парадоксально, выбирая последнее, теряешь жизнь. Воистину, неисповедимы законы абсурда!
Основой духовного сопротивления становится максима: всё видеть, всё запомнить, всё осмыслить. Память – важнейшее условие самосохранения.
Линию духовного сопротивления избрал во время своих сидений Иванов-Разумник. Его показания на следствии 1933 года стали обвинительным актом коммунистической диктатуре. Но если мировоззренчески духовный максималист остаётся самим собой, то что происходит с его бытовым поведением в замкнутом несвободой пространстве? Ведь тюрьма – это ещё и опыт столкновения личности с абсурдом быта: абсурдна и бессмысленна жизнь на воле, но жизнь в камере абсурдна вдвойне.
И тем не менее это жизнь. Поведение человека в тюремных условиях являет собой чистую субъективность: более не требуются идеологические маски, ухищрения и тому подобные формы социальной мимикрии. Всё это излишние для тюремной камеры одежды: человек оказывается голым, сущностным.
Быт, живописно нарисованный в «Тюрьмах и ссылках», для заключённого Иванова-Разумника стал единственной формой жизни. Интерес и ирония, которая в тюремном заключении достигает возможного максимума, находится внутри этого мира, не подчиняясь ему! Это, может быть, последняя попытка не изменить самому себе.
Освобождение из мира тюрьмы воспринимается как ещё большая бессмыслица. Воля – случайность (стечение обстоятельств), казалось бы, совершенно не зависящая от субъективности и воли отдельного человека, тем более последовательного, тем более в условиях массового террора второй половины 30-х.
Для Иванова-Разумника неожиданное освобождение в июне 1939 года (после второго сидения) в связи с прекращением дела означало, что в учреждении, ведающем перемещением граждан, произошли большие кадровые перестановки и теперь жизнь предоставляет ему уникальную возможность рассказать о виденном, слышанном и пережитом. Исполнить свою человеческую миссию вопреки воле системы, поставившей условия освобождения: никогда, никому, даже самым близким людям, не рассказывать о том, что он видел и слышал в тюрьме или сам пережил в ней.
Опыт духовного максимализма
В начале 1940 года Иванов-Разумник был приглашён для обработки архива своего старого друга Михаила Пришвина.
По воспоминаниям Валерии Пришвиной, это был измученный человек, который, несмотря на все жизненные катастрофы, сохранил два своих основных качества: всезнание и принципиальность. Принципиальность могла означать только одно: этот человек действительно ни на волос не сдвинулся с прежнего неприятия несвоей воли.
Ещё в январе 1918 года, в период максимального всплеска своей скифской проповеди, он писал: «Вечная эта история: благоразумные корят и поносят безумных. Вечные эти два стана. Благоразумные всегда стоят за прочный, твёрдый старый мир, безумные всегда ищут землю обетованную, хотя бы на пути к ней десятилетия надо было бы скитаться в пустыне. И каждый из нас должен твёрдо выбрать, к которому из двух станов хочет он принадлежать».
Выбор самого Иванова-Разумника нам хорошо известен: Скиф оставался верен духовному максимализму до последнего.
***
Судьбе было угодно провести Иванова-Разумника через испытания не только отечественными тюрьмами и ссылками. С сентября 1941 года он (житель Пушкина, быв. Царского Села) оказался в зоне германской оккупации, а с весны 1942 года в лагерях для перемещённых лиц, расположенных в Восточной Пруссии.
Преодолеть молчание – вот что становится главной целью. Уже находясь в немецком лагере, Иванов-Разумник возобновляет активную переписку со своими старыми литературными знакомыми – представителями первой волны эмиграции.
Но главным делом, которому он посвятил себя, стали мемуары, составившие позже книгу «Писательские судьбы», статьи, посвящённые истории русской литературы начала века (большая часть статей погибла в 1944 году во время бомбардировки) и «Тюрьмы и ссылки» – автобиографическое повествование о сопротивлении личности советской системе тоталитарной власти.
Конец войны застал Иванова-Разумника в Мюнхене, в американской зоне оккупации. Здесь он оказался под дамокловым мечом репатриации в Советский Союз и поэтому усиленно хлопотал о визе для выезда в Соединённые Штаты Америки.
В ночь с 3 на 4 июня 1946 года он был сражён инсультом и скончался 9 июня. Так последний свой приют обрёл Скиф на земле Германии. Жизненный путь максималиста мог бы считаться завершённым, но посмертная судьба оказалась к нему ничуть не милостивее прижизненной.
Спустя две недели после кончины Иванова-Разумника ничего об этом не ведающая нью-йоркская газета «Новое русское слово» поместила краткую заметку под выразительным названием «Судьба Иванова-Разумника»: «По полученным в Нью-Йорке сведениям, известный в своё время литературный критик Иванов-Разумник, бежавший во время германского вторжения в Россию к немцам и затем активно с ними сотрудничавший, в настоящее время скрывается в Германии».
Так родился миф о сотрудничестве Иванова-Разумника с немцами, который, похоже, дожил и до наших дней. Что ответить на эти обвинения? В лагере для перемещённых лиц он оказался вовсе не по своей воле: осенью 1941 года освободители разгромили его библиотеку, а весной 1942-го насильно вывезли его с женой в Германию. Вряд ли подобные насилия могли вызвать у Иванова-Разумника желание сотрудничать с оккупантами.
Да, главным делом во время прусского изгнания стали для Иванова-Разумника его воспоминания. Неожиданность поворота судьбы заключалась в возможности опубликования (то есть явления миру) подлинной правды о советском рае, о судьбах писателей, поэтов, философов, правды о себе самом.
Да, такую возможность предлагал противник, по отношению к которому Иванов-Разумник не испытывал никаких иллюзий, но не воспользоваться этим он не имел права.
Пел ли Иванов-Разумник осанну новой власти? Нет, этого не было и не могло быть: духовный максималист, не изменивший своим принципам в сталинских застенках, не мимикрировал и в немецком лагере.
Спору нет, фашисты пытались использовать мемуары Иванова-Разумника в своей борьбе против большевизма, но ведь за двадцать с лишним лет до этого большевики использовали скифскую апологию духовного Преображения как аргумент в пользу Октябрьского переворота...
Согласимся, что этот вопрос относится более к интерпретации, нежели к самим произведениям. Доверимся времени: оно отбрасывает всё лишнее, наносное, преходящее, оставляя за человеком единственное право быть самим собой.
Владимир Белоус. Из журнала «Литературное обозрение»
***
1 – Смысл понятия «скиф» Иванов-Разумник воспринял от Герцена, который в «Былом и думах» писал: «Я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание – возвещать ему его близкую кончину». Скифство – это отрицание усреднённого мещанского существования, ожидание очистительных стихийных перемен (Ред.).
Ещё в главе «Жизнь — творец — искусство»:
Оправдание духовного максимализма (размышления о судьбе суверенного интеллигента)
