«Огненная машина»: две судьбы одного изобретения. О странной российской любви к родному пепелищу
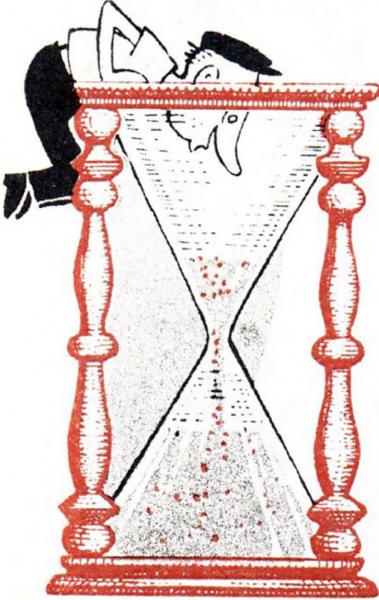
Сегодня, когда Россия вновь пытается примерить на себе западные модели экономического и социального развития, как и прежде, встаёт вопрос, по плечу ли, по силам ли ей усвоить изобретения, идеи, открытия, рождённые иным, нежели у нас, типом культуры. Ведь известно, что любое изобретение, технологическое или научное новшество, – факт не только промышленный, но в основе основ явление культуры.
Наука, дитя Запада, как известно, прививаясь на других культурных почвах, с необходимостью подчиняется и иным культурным традициям. Что же происходит у нас? Почему Россия, имея неоспоримые научные приоритеты в ряде областей, оставалась в целом технически отсталой? Почему российское государство игнорировало отечественную передовую мысль, зато охотно заимствовало (часто втридорога) западные результаты?
.jpg)
В каждом из нас слишком много винтов, колёс и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трём признакам. А. Чехов
Аз да буки – и все науки?
Первая «огненная машина» была построена в Барнаульском заводе на Алтае Иваном Ивановичем Ползуновым с учениками к весне 1766 года. В августе она начала работать, но её создатель не увидел результатов своего труда – он умер от скоротечной чахотки в мае. Машина же, проработав до ноября, была остановлена на ремонт (вечный ремонт – так уж заведено в наших краях), через четырнадцать лет её сломали вовсе, а место, где она стояла, на заводе прозвали «ползуновским пепелищем».
Напомню, что в Великобритании первая паровая машина универсального действия была построена и готова к работе в 1766 году. Но в отличие от русского самородка Джеймс Уатт получил поддержку в промышленных кругах Англии; и позже, продолжая работать над усовершенствованием своего изобретения, Уатт стал счастливым свидетелем мощного развития паровой техники. Он умер в 1819 году в почёте и славе.
Перед нами две судьбы одного открытия (приоритет Ползунова в проектировании и строительстве двухцилиндровой паровой машины универсального действия очевиден. – Ред.), и дело, конечно, не в характере каждого изобретателя: русский был способным организатором и управленцем, англичанин склонен к меланхолии и депрессии; оба щедро наделены способностями к точным наукам, прирождённые механики.
И тот и другой – тип изобретателя новой индустриальной культурной эпохи, самостоятельная творческая личность, ориентирующаяся на промышленные нужды и общественную пользу. Так почему же в одном случае открытие состоялось, а в другом – нет? Почему английский «дух капитализма» усвоил и развил идеи Уатта, сделав их фактором европейской жизни, а российская культура эту возможность отбросила более чем на шестьдесят лет?
* * *
Начала биографий Ивана Ползунова (родился в 1729) и Джеймса Уатта (родился в 1736) удивительно схожи. Оба родились вдали от столиц: один – под Екатеринбургом, другой – под Глазго. Оба выходцы из простонародья.
Отец Ползунова, солдат, был неграмотным, но сына определил в словесную школу. С 1738 года Иван учится в арифметической школе, открытой ещё в 1721 году Василием Татищевым. Тринадцатилетним мальчиком Ползунов попал в ученики к мастеру Никите Бахореву, который ещё в петровские времена получил образование в Петербургской морской академии, изучал машинное дело в Швеции, а затем – на Красносельском медном заводе. У него Ползунов прошёл полный цикл ученических работ: механику, расчёты, чертежи, знакомство с металлургией и заводским производством...
В доме отца – плотника и мелкого торговца – Уатт имел возможность читать достаточно серьёзную научную литературу. К своим пятнадцати годам Джеймс дважды прочёл «Элементы натуральной философии» сэра Грэйвсэнда, популяризатора ньютоновских идей. В мастерской отца и позже – в учении у мастера Джона Моргана – Уатт с увлечением изучал устройства инструментов, морских квадрантов, компасов...
В 1747 году на только что взятом по воле императрицы Елизаветы Петровны в царскую собственность Барнаульском медеплавильном заводе, – некогда построенном Демидовым, затем отобранном Татищевым в казну по обнаружении в тех местах серебра и возвращённом в царствование Анны Иоанновны (ненадолго, как оказалось) его первым хозяевам за взятку, – Иван Ползунов получил должность гиттеншрейбера (1).
С этого момента, пожалуй, и кончается внешнее сходство двух биографий...
.jpg)
Власть без злоупотребления не имеет очарования. П. Валери
Университеты или «школа жизни»?
Глазго, шотландский городок, где ещё в начале XVIII столетия было 11 тысяч населения и две улицы, к середине века стал богатым индустриальным городом, торговавшим с Америкой табаком и с Индией сахаром и ромом. Здесь в 1757 году Уатт хотел открыть своё дело. Но городская цеховая организация ремесленников не дала ему на это разрешения. Заметим, что в разгар промышленного переворота цеховые законы были ещё сильны и с ними приходилось считаться.
Помощь пришла из колледжа Глазго. За успешное изготовление нескольких астрономических инструментов для исследований Уатт получил разрешение на открытие мастерской в стенах этого учебного заведения, где городская Гильдия не имела права распоряжаться.
Будущий всемирно признанный «отец» паровой машины попал в университетскую атмосферу. Лишённые снобизма и демократически настроенные профессора (довольно молодые: 28-летний Джозеф Блэк, профессор-химик; сын пастора, профессор натурфилософии 30-летний Джон Андерсон; 34-летний профессор логики Адам Смит, известный политэконом и др.) приняли его в свою среду...
Ползунов же, хорошо зарекомендовавший себя на государственной службе, в 1750-м был произведён в чин унтер-шихтмейстера, в связи с чем Канцелярия приняла решение об обучении молодого мастера пробирному, плавильному и другим горным делам. Однако выполнить свой указ начальство забыло и вспомнило лишь после прошения Ползунова, где тот выразил желание «наукам обучаться», чтобы «в знании оных наук против своей братии не мог понесть обиды». «Молодость моих лет, – жаловался он, – без науки втуне пропадает».
.jpg)
В 1759 году, после выполнения ответственного государственного поручения – сопровождения обоза с золотом и серебром из Колыванских заводов в Петербург, Ползунов получил офицерский чин шихтмейстера. Так как офицерским чинам предписывалось обучаться «горным и заводским ремёслам, то есть в строении горных работ и машин...», то во исполнение реляции было указано организовать занятия под руководством гиттенфервальтера Гана, который оставил следующий отзыв о «студенте»: «Шихтмейстер Иван Ползунов малое время, и то как свободно ему от порученного дела бывало, у меня, а более в доме своём книгу о рудокопном деле читал. И прочёл до половины; и рассуждал, и к тому понятен. А из другой книги минералог и выписал экстракт (конспект – Ред.), а что из оного вытвердил, мне не известно. Однако видно, что он к тому прилежности охоту имеет».
Очевидно, что возможности Ползунова в хорошем образовании, контакте с людьми науки, чтении книг были крайне ограничены. Не говоря уже о том, что от Алтая до ближайшего университета – Московского, только что открытого, – тысячи вёрст. В России того времени отсутствовали научные и другие интеллектуальные сообщества внесословного характера. И всё же...
.jpg)
Всякое веяние, сколько-нибудь выходящее из пределов обыденности, всегда представляется у нас чем-то злостным... и притом всегда сопрягается с представлением о «зачинщике». М. Салтыков-Щедрин
Машина: идея – дело – судьбы
...Именно в это время здесь появляются идеи о создании машин, действующих не силой воды, но огнём. Как шла работа, какие открытия были сделаны, какие трудности преодолены, мы, скорее всего, никогда не узнаем, так как письменных документов Ползунова частного характера не сохранилось. В переписке изобретатель состоял лишь с Канцелярией Колыванско-Воскресенского завода.
Сюда к генерал-майору А. И. Порошину в 1763-м он посылает свой проект с описанием огнедействующей машины, присовокупляя верноподданически: «...усердно желаю, да благоволит Ваше Превосходительство в важных сего дела начинаниях, во дни наши под своим предводительством, к этому первому заступить смелость, дабы сей славы, если силы допустят, Отечеству достигнуть».
Да и что оставалось делать, как не обращаться к начальству? Только от правительственных чиновников мог он рассчитывать получить хоть какую-нибудь помощь. «Наша мануфактура и фабрика, – писал П. Н. Милюков, – не развивалась органически, из домашнего производства, под влиянием роста внутренних потребностей населения; она создана была поздно правительством, руководившимся при этом своими практическими нуждами (например, в сукнах для армии)... В стране без капиталов, без рабочих, без предпринимателей и без покупателей эта форма могла держаться только искусственными средствами».
В условиях государственной капитализации России в охране авторского права не нуждались. Высочайшее дозволение или недозволение определяло судьбу изобретения (справка: в Англии первый патент был выдан в 1624 году). Что же до проекта Ползунова, то возможности его претворения в жизнь складывались по тем временам удачно: «придя в сумнительство» и «с крайним сожалением» Канцелярия таки препроводила проект в столицу. Оттуда пришёл ответ-распоряжение о посылке механикуса Ползунова для дальнейшей учёбы в Петербургскую академию наук на 2-3 года, оставшееся, впрочем, невыполненным.
.jpg)
Легче составлять законы, чем исполнять их. Наполеон Бонапарт
Удачей было то, что бумаги изобретателя в 1763 году попали не к традиционному российскому чиновнику, а к европейски образованному специалисту – президенту Берг-коллегии Шлаттеру, одному из тех, которые в период петровских и екатерининских реформ были поставлены на высокие посты с целью привития России западного интереса к практической науке и изобретениям. Получив от главы, выражаясь современным языком, Горнорудной Коллегии указание, что «сей вымысел за новое изобретение почесть должно...», Канцелярия распорядилась: «...велеть такую машину... построить и в действие произвести, дабы он практикою теорию свою подтверждал».
.jpg)
.jpg)
Миром правят судьба и прихоть. Ларошфуко
Правда, вместо потребных 76 человек – мастеров и рабочих – Ползунову выделено было в подмогу всего три ученика. Новизна дела, отсутствие опыта, «выбивание» необходимых материалов да обучение помощников и нужда в попутных расчётах, так как отсутствовала рабочая модель, – все эти проблемы отодвигали сроки завершения работы. Зато все торопили: и Петербург, и Канцелярия.
Первые более или менее удачные испытания прошли 7 декабря 1765 года. В рапорте о них Ползунов, критически оценивавший свои возможности, писал, что он, как «неучёный в высшей математике» механик, не может рассчитать «градус огня, о котором действовать должна машина», и «крепость тел, из коих она составлена», и поэтому будет полагаться лишь на «практическое признание».
В январе 1766 года из Петербурга пришёл заказ на создание модели машины. Принимаясь за работу, Ползунов надеялся ещё раз проверить правильность расчётов. Но скоротечная чахотка прогрессировала с весной, и последнее прошение в Канцелярию изобретатель диктует 21 апреля 1766 года: просит выплатить семье задержанную награду и уволить его от постройки машины. Через месяц Иван Иванович Ползунов скончался...
Пожалуй, самую высокую оценку своего труда русский изобретатель получил не от соотечественников, а от иностранного путешественника и учёного Эрика Лаксмана, который писал друзьям из Сибири: «...Иван Ползунов, муж, делающий истинную честь своему Отечеству. Он строит теперь огненную машину, совсем отличную от венгерской и английской. Машина сия будет приводить в действие меха или цилиндры в плавильнях посредством огня: какая же от того последует выгода! Со временем в России, если потребует надобность, можно будет строить заводы на высоких горах, и в самих даже шахтах».
Лаксман ошибался. Нерченские заводы, использовавшие живую силу на рудниках, ещё при жизни Ползунова просили Колыванское начальство прислать чертежи «огненной машины». Но, как ни уговаривал Канцелярию изобретатель, в просьбе было отказано...
* * *
Есть специфически русское и очень ёмкое слово – самородок. Это человек, вдруг сам собой состоявшийся (почувствуйте разницу с self-made man! – Ред.), – без поддержки общества, скорее даже вопреки своему окружению. Чаще всего такой человек уходит из жизни без последователей, воспринятый современниками в лучшем случае как чудак, его открытия гибнут, пропадают. Появление самородков показывает, с одной стороны, потенциальные возможности народа, но с другой – опасное отсутствие в культуре механизмов усвоения новаций.
Иные возможности складывались в жизни «отца» паровой машины – Джеймс Уатт окружён заинтересованными в его открытии единомышленниками, которые не только консультируют, но и оказывают финансовую поддержку. В 1766-м нужда заставила его отодвинуть на второй план занятия своим изобретением и зарабатывать на жизнь в открытой им конторе по обслуживанию каналов и строительству дамб.
Но вскоре он встретился с доктором Джоном Рэбуком, известным физиком, химиком-экспериментатором и промышленником, который высоко оценил изобретение. Необходимость же откачки воды из принадлежавших ему шахт вынудила Рэбука выделить Уатту средства, мастеров и помещение – флигель своего дома – для проведения дальнейших экспериментов. Он же настоял на получении мастером патента на сделанное изобретение парового двигателя (9 января 1769 года) и оплатил эти расходы.
В 1767-м Уатт в Бирмингеме познакомился с фабрикантом Мэтью Болтоном, о котором лучше скажут слова его письма к изобретателю: «Я был взволнован двумя обстоятельствами, предлагая Вам свою помощь: любовью к Вам и любовью к приносящим деньги изобретательским проектам». Серьёзность заявления бизнесмена подтвердили его предложения: приобрести патент или, в крайнем случае, лицензию, обеспечить новатора всем необходимым для завершения работ и развернуть широкое производство машин разных размеров для промышленного рынка всего мира.
Но завершение дела требовало времени и средств. Уатт направляет петицию в Парламент для продления особых привилегий на использование изобретения, которую в Палате Общин, по просьбе Болтона, представляет лорд Гернси. В феврале 1775 года тот же Болтон пишет письмо графу Дортмусу, президенту министерства торговли, лично интересовавшемуся новинками в науке и технике, с просьбой оказать содействие скорейшему и успешному разрешению вопроса.
.jpg)
...без зажиточной жизни в народе не воспитаешь добрых качеств... Сюнь-цзы. Автор рисунка: П. Ковалёв
Петиция была удовлетворена, пройдя все необходимые ступени в Палате законов, королевской санкцией от 22 мая 1775 года. В начале 1776 года первая машина была куплена преуспевающим промышленником Джоном Уилкинсоном для раздувания горна на его заводе в Бросли. В 1777-м же в одном только Корнуэлле работало более 70 уаттовских механизмов. В начале нового столетия стали поступать заказы из других стран, строительство паровых машин продолжилось в Германии, Голландии, Америке и Франции.
Партнёрство с Болтоном принесло Уатту постоянный годовой доход в 300 фунтов плюс прибыль от продаж. Была чётко определена и его деятельность на построенной фабрике: делать чертежи, определять направление производства, совершенствовать конструкцию и проводить инспекции.
В день четвертьвекового юбилея созданной ими компании 64-летний Уатт и его 72-летний друг и партнёр – в самом зените славы – вместе принимали поздравления и благодарность деловых людей своего отечества...
Пророческие итоги?
Так отчего в одном случае открытие, состоявшись, не состоялось, а в другом – благодаря ему же началась промышленная революция, сделавшая Британию мировым лидером следующего столетия?
Первое. Обратите внимание на различие в положении человека, реализации его личных возможностей и гарантий со стороны государства.
В России государство не привыкло ни считаться с людьми, ни дорожить их жизнью, умом и способностями. Во главу угла ставились, прежде всего, интересы двора, министерства, канцелярий и их чиновников. Ценность человека определялась его исполнительностью и послушанием представителю власти. Личность изобретателя была скорее помехой системе, нежели подспорьем.
Развитие промышленности, да и всех других структур общества, велось за казённый счёт. Тогда (как зачастую и сегодня. – Ред.) российские предприниматели создавали капиталы, утаивая их по возможности от Двора. Когда же это становилось невозможным, отдавали свои заводы в казну, строя теперь свой капитал благодаря взяткам.
Третье сословие – купечество, мещанство – развивалось медленно. Ничтожно малое число представителей низших сословий смогло воспользоваться возможностью, данной ещё петровской Табелью о рангах, выбиться в люди через образование.
Англия XVIII века, после эпохи первоначального накопления капитала и буржуазной революции, переживала период становления гражданского общества. Сложился средний класс, и цеховые корпорации, ещё недавно диктовавшие законы своим членам и всему городу, сменялись свободными сообществами граждан Королевства – от протестантских общин до комиссий по благоустройству городов и профессиональных союзов.
Личность предпринимателя – независимого индивида, защищённого законами (а не бандоформированием преданных и кормимых барином холопов. – Ред.) государства и ограниченного ими же в собственном произволе как в производстве, так и в торговле, – вот что составляло главную заботу тогдашнего британского общества. Изобретатель в этих условиях становился нужным обществу человеком, приносящим видимые доходы и успех.
Второе. Степень развития промышленности Англии и России создала для Ползунова и Уатта разные стартовые возможности, как при реализации изобретения, так и при проведении экспериментов. Даже достойный восхищения инженерный гений самородка не мог перебороть сложившуюся традицию неприятия новшеств, рождённых жизнью, а не указом начальства.
Третье. Культурный сдвиг, переживаемый капитализирующейся Европой, укрепил там доверие к знанию как таковому и к науке, в частности.
Люди, включённые в производственный процесс на мануфактуре, испытывали глубокую потребность в собственном интеллектуальном развитии. Российская же культура, ещё со времён бесконечного противоборства Московской Руси с татарами, когда «многомудрствование» было признаваемо подозрительной роскошью, и к концу XVIII века так и не выработала в себе представление о ценности знания. Даже петровские реформы воспринимались до поры лишь как государственная, а не общественная задача...
* * *
Традиционная Россия с очень большой неохотой меняла свои привычки определять ценность человека чином, а не талантами и общественной пользой его деятельности.
Наверное, этим объясняется то, почему с такой признательностью относятся британцы к своему великому соотечественнику Джеймсу Уатту и его партнёру Мэтью Болтону: сегодня каждый может поклониться их праху, придя в церковь Хэндсуорса. Мы же не знаем, да и вряд ли когда узнаем, где место вечного покоя нашего гениального соотечественника Ивана Ивановича Ползунова.
Марина Киселёва
Дайджест по публикации
в журнале «Вопросы философии»
***
1 – Мастер, ведущий запись расходов материалов и количества полученных продуктов.
Ещё в главе «Идеи - дела - судьбы»:
«Огненная машина»: две судьбы одного изобретения. О странной российской любви к родному пепелищу
