Космология ткацкого станка
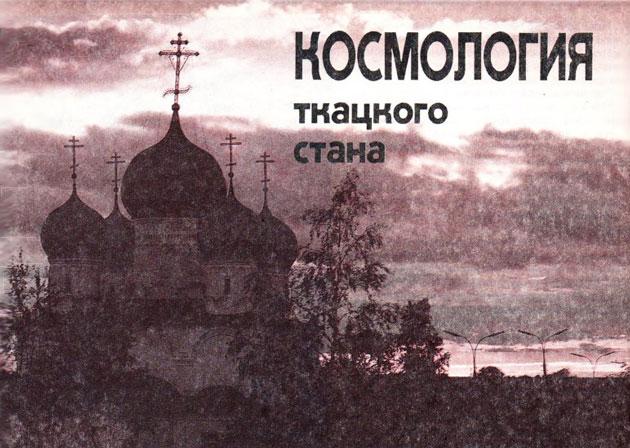
В первоначальных формах крестьянского жизненного уклада, когда человек был пронизан ощущением своей причастности к Космосу, сакральное и бытовое в патриархальном сознании были неразделимы. Крестьянин верил в одухотворённость окружавших его вещей, чувствуя их частью самого себя. Поэтому смысл повседневных крестьянских работ – дома ли, в поле – отнюдь не сводился к их практической пользе.
Так, утилитарную неизбежность традиционных зимних женских занятий – прядения и ткачества – генетическая память народа наполняла духовной мудростью. Мифологические мотивы, пришедшие из глубины веков, связывали непрерывность прядущейся НИТИ с течением человеческой жизни и судьбы, а её разрыв означал смерть.
В русской языческой мифологии есть такой женский персонаж – Среда (Середа). Считалось, что она помогает ткать и белить холсты, а также наказывает тех, кто работает в среду. Тема ткачества неоднократно возникает и в Библии, освящая в поколениях крещёного люда столь обыденное занятие. Духовность Вещного мира – непременное условие существования деревенского социума.
О космологии ткацкого стана – удивительного создания народного гения (предмете, без которого до недавнего времени не обходилась почти ни одна крестьянская женщина) – размышляет тюменский искусствовед Неля Шайхтинова.
.jpg)
.jpg)
Силы напрягши свои, подниматься из бездны всё выше – вот что достойно труда! (Вергилий). Авторы фото: И. Питалёв, Г. Лукьянов
Архитектоника мироздания
В мифах и верованиях многих народов нам нередко встречаются всесильные покровительницы прядения и ткачества. И это неудивительно. С давних времён в народном сознании ткачество обрело свойства священного действа, а ткацкий стан, в свою очередь, – сакрального предмета.
Нить на стане, переплетаясь с другими, рождала полотно. Изначальное заветное значение её как нити жизни в новой ипостаси обогащалось священным содержанием тканых узоров: ромбы обычные и сложные, квадраты, точки, зигзаги – древние знаки Великой женщины: плодородия, движения, пашни, воды... С особым усердием ткали приданое – задолго, за несколько лет до свадьбы.
Ткацкий стан был жизненно важным предметом и потому нуждался в защите от навий (1) с помощью испытанной системы знаков. Их меты оседали на деталях стана, наделяя и его магической силой оберега: кросна защищали ткачиху – женщину, продолжательницу рода.
Архитектоника стана, можно сказать, классически воплощает представление о мироздании. Здесь есть место и для вертикали мирового древа, и пространственные ориентиры: четыре стороны света, четыре времени года, четыре степени развития человека (рождение, расцвет, зрелость, смерть). Наконец, здесь ощущается глубинность пространства.
Представим себе мировое древо кросен, от корней до вершины.
Нижний мир, подземный – ниже подножек. Средний мир, земной – сама станина. Верхний мир, небесный – набилки и векошки, притужальник и пространство выше кронштейнов стана (они называются «лапы», «поднебник»).
Вверх по древу, ведущему вниз...
Совершим теперь уже медленное восхождение по «древу».
На площадке подножек, представляющих своеобразный рубеж между земным и подземным мирами, кроме зубчатых дорожек – воды, встречается знак солнца (чаще всего лучевая розетка), как бы готового спуститься в подземный океан.
Кони подножек, как бы пронёсшие солнце по небосводу, должны передать у рубежной (между земным и подземным мирами) черты свои полномочия представителям, близким иному миру – быкам, животным, также тесно связанным с древней мифологией.
(Для традиционных культур весьма характерны размытость границ, неоднозначность толкований какого-либо образа. Так, например, в балтийской земледельческой символике быки были связаны со смертью, с нижним миром, и, одновременно, с плодородием; с миром мёртвых и погребальными ритуалами связывались и кони в древних культурах.)
Нити основы по нашей схеме должны олицетворять пашню. Борозды – это промежутки между нитями, и «засевается» такая пашня челноком с нитями утка. Особый смысл посев обретает, когда бранина образует ромбы – знаки плодородия. Семя льна лежит в земле, как в материнской утробе, прорастает, растёт, зреет, созрев, умирает как зерно, но даёт жизнь новому растению.
Звучание узоров усиливается обилием красного цвета. В христианстве одно из его символических значений – воскресение и бессмертие, вечный источник жизни. Наша пашня, находящаяся между земным и небесным мирами (а скорее всего и там и там), обретает значение некоего идеального небесного поля плодородия, жизни, вечного обновления, будто сотворённого Божественной рукой.
Двойное значение приобретает челнок как участник сакрального действа: он несёт жизнь (нить утка), но и напоминает о смерти. Не только потому, что постоянно бороздит поперёк пашни – реки жизни, как бы перечёркивая её своим ходом, но и потому, что челнок – это, по сути дела, колода или ладья, которые древние наделяли и дополнительным смыслом: долблёный ствол, колода некогда была и гробом.
Летопись сообщает, как хоронили убиенного князя Муромского Глеба – под ладьёй, между двумя колодами. В небесную сферу ткацкого стана входят набилки – это своеобразный щепной гребень для нитей основы, замкнутый сверху и снизу двумя грядами, – и векошки – блоки кросен. Верхушки у векошек часто завершены объёмными изображениями птиц и коней.
Обычно векошки представляют собой фигурно обработанный столбик-ствол, оканчивающийся внизу округлыми дисками с крутящимся между ними колёсиком. Порой ствол процветает отростками, и тогда возникает прямая аналогия с кустом и древом, висящим вниз кроной.
Надо сказать, что в мифах древних индийцев, некоторых сибирских народов, в старинных русских заговорах упоминается вселенское древо, корни которого питаются влагой верхнего океана, а крона-туча или крона-дождь опрокинута вниз, к земле.
«На море, на океяне, на острове, на кургане стоит белая берёза, вниз ветвями, вверх кореньями...» Векошку можно уподобить небесному древу, воображаемые корни которого уходят ввысь...
В ткацком стане нет сплошной кровли, но есть пара кронштейнов, на русском Севере не случайно называемых поднебьем. На боковых поверхностях этих кронштейнов можно увидеть волнистые резные линии – знаки воды. Это поднебье и должно играть роль тверди между хлябями небесными и солнечно-воздушным небом.
.jpg)
Коня на ходу остановит, соткёт полверсты полотна!
От корней мирового древа ткацкого стана мы поднялись вверх до его вершины и от корней деревьев небесных, обращённых вверх, спустились вместе с дождём в земную сферу и, далее, к корням мирового древа. Так замкнулось кольцо круговращения в природе.
Объёмная пространственная конструкция ткацкого стана была способна отразить самые сложные мифопоэтические представления человека об устройстве мира. Возможность мысленно развить пространство по всем направлениям: ниже подножек, выше кронштейнов, во все четыре стороны по горизонтали – делает эту способность почти универсальной. Но движение по всем векторам, а с ним и одушевление стана и наполнение его структуры смыслом осуществляется человеком.
Жизнь ткущая
Ткачиха, ступая на педали стана, даёт движение по вертикальной оси. Руками даёт она ход челноку слева направо и обратно, и набилкам – вперёд, назад. Это крестообразное движение утверждает глубинность объёма и даёт ориентацию на четыре стороны света, четыре ветра...
Руки женщины, разведённые в широком жесте, как бы парят над созидаемым ею миром. С лицевой стороны верхней гряды щепного гребня смотрят на ткачиху изображения оберегов – знаки солнца, огня, воды, земли, плодородия...
Ткачиха входит в пространство стана (как и сам он – в пространство избы, изба же – в пространство мира...) Возникает двуединство ткущей и самого стана. И если стан возможно наделить сакральным смыслом, то нет сомнения, что человек и его действия не могут быть обойдены им.
Известно, что и дом, и храм – это модели макрокосма. Человек ощущал своё единство с ними, но в них он был малой частицей тварного мира. Ткацкий стан предлагал ему иную роль. Человек становился либо персонифицированным подобием мира, либо его творцом.
Волшебные превращения, творимые природой, завершаются ткачихой как творцом новой жизни: холст – жизнь.
Многие народы представляли Вселенную в облике человека, у которого голова – небо, глаза – солнце, дыхание – ветер, земля проецируется на бёдра либо на ступни, но иногда ступни – это уже преисподняя. В ткацком стане были учтены древние представления о соответствии строения человека структуре мира.
Ткачиха в древности ассоциировалась, пожалуй, с божеством, творящим жизнь, или с самим мирозданием. Членение же кросен, представленное здесь, соответствует членениям человека-мира.
Ещё во времена энеолита созидание живого, а шире – и всей Природы связывалось с Женщиной. Фигуры ромба также соединялись в сознании человека с образом Великой Женщины.
Однако божество по воле своей и созидает, и разрушает созданное... Так в руках ткачихи сошлись начала жизни и смерти. Срезался с основы готовый холст – наступал конец творению. Мифопоэтические представления народа связывали это с концом жизни. Читаем в Библии: «...я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою: Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину».
Срабатывает обратная связь: если стан можно воспринять как реплику Космоса (с его временем, пространством, устойчивостями и переменами), то Мироздание можно уподобить стану. Здесь рука Творца ведает сменой созидания и разрушения. Работа на стане – архетип этого действа.
На этом, пожалуй, и завершим попытку реконструировать космологическую организацию ткацкого стана, попытку восстановить ту оборванную в сознании народа связь, где неразделимы сакральное и бытовое и двуедины человек и предмет его труда и быта.
Из журнала «Декоративное искусство в СССР»
***
1 – Навь – в славянской мифологии воплощение смерти
Ещё в главе «Деревня - город - отечество»:
Космология ткацкого станка
