«И с тихой песнею вхожу в сердца людей». Александр Николаевич Вертинский (1889–1957)
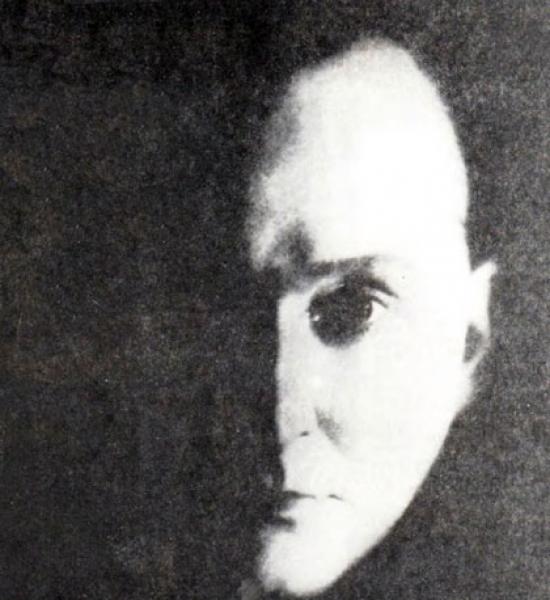
Он заставлял нас заново почувствовать красоту и величие русской речи, русского романса, русского духа... Время показало, что Вертинский – это наша национальная гордость.
Иннокентий Смоктуновский
Долгой дорогой странствий была жизнь этого человека. Уже известным артистом он был вынужден покинуть родину. Его гастроли во многих странах мира сопровождались восторженным приёмом. Его таланту рукоплескали Варшава и Берлин, Париж и Нью-Йорк... Но его неизменным, самым сильным чувством была любовь к России. О замечательном русском артисте Александре Вертинском и пойдёт наш рассказ.
До покорения мира было ещё далеко
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки про сон золотой...
(«Я сегодня смеюсь над собой»)
Маленький Саша рано потерял родителей. Когда ему было три года, умерла мать, «самая нежная и кроткая», а вскоре от горя утраты скончался и отец, известный адвокат, «чудный, добрый и красивый». Приютили ребёнка родственники.
Детство Саши связано с Киевом. По субботам кузина водила мальчика во Владимирский собор. «Как прекрасно, величественно и торжественно было там! – вспоминал впоследствии Александр Николаевич. – Образ Богоматери (кисти Нестерова) был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери!.. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. И долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от неё глаз. Много лет потом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы».
Саша замирал от пенья церковного хора и завидовал мальчикам, прислуживающим в алтаре в белых и золотых стихарях. «Я мечтал быть таким, как они, и ходить по церкви со свечами... И все на меня смотрели бы... Я тогда уже бессознательно хотел быть актёром» (из письма жене, Л. В. Вертинской, 21 авг. 1945 г.).
В гимназии смышлёный и неглупый мальчик учился плохо. Вместо учебников запоем читал Жюля Верна и Майн Рида. За единицы и двойки, «в соответствии с прилежанием», дома его нещадно пороли. Любви к «бедному родственнику» особой не питали, и то, что душа его «тянулась совсем не к математике, а к искусству», никому дела не было. Долговязый и худой подросток, «маленький, глупый и нежный», рос как трава, сам по себе. Водил компании с отпетыми второгодниками, влюблялся в тоненьких, как берёзки, гимназисток, мечтал стать пожарным.
Выгнанный из гимназии, а вскоре и из дома, юный Александр, к тому времени заядлый театрал, поскитавшись без крова, попадает в богемную среду, заводит немало новых знакомых: молодых поэтов, художников, литераторов. «Среди киевской молодёжи, – вспоминал Вертинский, – было много действительно талантливых и только мнивших себя талантливыми молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть, главным образом, показывать себя на сцене. Складывались по грошам, снимали зал, брали напрокат костюмы в долг, выклеивали сами лично на всех заборах худосочные, маленькие, жидкие афишки... и играли, играли, играли».
Летом 1913 года молодой Вертинский приезжает в Москву – город его надежд, издавна влекущий к себе провинциальную молодёжь. «Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир... чтобы вся Вселенная восхищалась только мной одним. А я... Я буду стоять высокий, гордый и прекрасный в совершенно новом фраке (не с толкучки, конечно) и надменно улыбаться, скрестив руки...» – напишет он позже с присущей ему неизменной иронией. Но во многом, заметим, его юношеским честолюбивым мечтам было суждено сбыться.
Впрочем, до покорения мира было пока далеко. Но он не унывал, этот долговязый, милый юноша, исключительно добрый и, конечно же, непрактичный. Однако ему никогда не изменяло врождённое чувство юмора. Он легко сходился с людьми, и повсюду у него были друзья.
В своём письме известному литератору Льву Никулину Александр Николаевич так повествует о времени своей юности: «Эпоха была насыщена талантами: я уже не говорю об Ахматовой, Блоке, Гумилёве, Иннокентии Анненском, Лентулове, Ларионове, Гончаровой, Жорже Якулове и Володьке Маяковском. Мы – голодные, ходили в рваных ботинках, спали закокаиненные за столиками «Комаробки» – ночной чайной для проституток и извозчиков, но... Не сдавались! Пробивались в литературу, в жизнь!»
Первая мировая... Саша Вертинский идёт на неё добровольцем – записывается в персонал санитарного поезда под именем Брата Пьеро. Пьерошей попросту и любя звали его медперсонал и раненые. Он играл им на гитаре, напевая немудрёные песенки. Впрочем, на песенки времени почти не оставалось: «мы отдавали раненым всё – и силы свои и сердце», – Александр Николаевич до конца дней своих гордился, что на его счету 35 тысяч сложных перевязок и тем, что вагон медбрата Вертинского был образцовым по чистоте.
Экзамен на звание артиста
Ну, конечно, Пьеро – не присяжный поверенный.
Он – влюблённый бродяга из лунных зевак.
(«Трефовый король»)
В начале 1916 года поезд расформировывают и Вертинский возвращается в Москву. Александр Николаевич вспоминал о том времени: «С фронта везли и везли новые эшелоны калек... Трон шатался, поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов... Страна дрожала как от озноба, сжигаемая внутренним огнём. Россию лихорадило».
Но, как и в мирное время, бойко торговали магазины, по-прежнему кипела жизнь в кафе и ресторанах, процветали театры, кабаре, эстрада, набирал силу кинематограф, или, как его тогда называли, синема. Богемы как будто бы совсем не касалась война. Непризнанные гении издавали изысканно-галантерейные сборники стихов, выставляли на вернисажах свои полотна, явно рассчитанные на эпатаж почтенной публики. Самозабвенно декламировал свои «поэзы» Игорь Северянин. Владимир Маяковский яростно хлестал обывателей строчками:
Вам, лишь любящим баб да блюда,
Жизнь свою отдавать в угоду?!.
...Слава пришла к молодому Вертинскому как-то сразу, неожиданно. Он выступал в разных театрах миниатюр, чаще всего на Петровских линиях, в костюме печально-изысканного Пьеро (1), напевающего свои «ариетки» – незатейливые грустные песенки-новеллы собственного сочинения или на стихи модных поэтов: Блока, Северянина, Анненского, Ахматовой, Тэффи, Гумилёва – «Кокаинеточка», «Жамэ», «Креольчик», «Минуточка», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном» и так далее. В них речь шла о людях, страдающих от неразделённой любви, от жизненных невзгод, существах трогательных, по-детски беззащитных.
Публика принимала эти песенки с восторгом. Билеты на выступления артиста раскупались на много дней вперёд, в витринах модных кафе были выставлены его портреты. Образ Пьеро, с лёгкой руки Вертинского, становился символом времени, даже к Александру Керенскому приклеилось прозвище «печальный Пьеро Российской революции».
«Театральная газета» сообщала: «В новом Петровском театре миниатюр «картавит» свои ариетки г. Вертинский».
В его стихе много городской остроты, много «кокаинового» дурмана, болезненно-изысканной выразительности. Это – бесспорно поэт. А то, как он грассирует своего «карррлика маленького» или «облезлую горрржеточку», и этот налёт – деланной? – застенчивости, милой неуклюжести исполнения роднит его с образом Пьеро не только путём костюма». Рецензенты сравнивали слова его песенок с «болезненными лепестками, которые медленно осыпаются в тоскливые вечера. Их аромат дурманит и пряностью географической экзотики, и городской экзотикой чувств, и музыкой картавого говорка, и контрастом сдержанного графического жеста».
Главное было совершенно ясно: появился новый эстрадный поэт со своим неповторимым стилем.
Александр Николаевич замечал: «На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонников и поклонниц. Газеты меня изощрённо крыли. А публика частью аплодировала, частью свистела. Но шла на мои гастроли лавой».
25 октября 1917 года. Чем знаменателен был этот день для московских газет? Революция – скажете вы. О нет, отнюдь: известия о бенефисе Вертинского – вот их главная тема. О революции со страхом заговорят позже, когда отгремят в Москве уличные бои и к власти придут большевики.
Вертинский в один из дней наступившей смуты вышел на сценку Петровского театра впервые не в обычном костюме Пьеро, а в чёрной визитке с траурным креповым бантом. Артист начал петь свою, ставшую легендарной песню «То, что я должен сказать», или «Юнкера», – о русских мальчиках, безвременно погибших в дни Октябрьского переворота. Он исполнял эту песню не жестикулируя, как обычно, но стоя неподвижно, с закрытыми глазами:
Я не знаю, зачем и кому это нужно.
Кто послал их на смерть недрожащей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой...
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной Весне.
Именно этой песней, от которой зал замирал потрясённый, чтобы через несколько секунд взорваться от аплодисментов, Вертинский, по его словам, «выдержал страшный экзамен на звание артиста».
Не замедлил и вызов в чрезвычайку:
– Почему вы поёте о врагах революции? Вы их поддерживаете?
– Я их жалею, просто жалею. Разве можно запретить жалеть?
И в ответ зловеще: «Дышать запретим».
Стало ясно: надо уезжать – ни выступать, ни жить здесь не дадут. С середины июня Вертинский покидает Москву. К слову, в 1920 году специальным постановлением советского правительства театры миниатюр были ликвидированы «ввиду явно нетерпимого характера»...
Одесса времён гражданской войны. Сюда прибивались многие горе-перекати-поле со всей России. Здесь царил водоворот слухов, сплетен, судорожных куплей-продаж. Здесь, в шумной «Одессе-маме», хотелось верить в счастливую развязку всех невзгод, но тяжёлые предчувствия, скрываемые от себя и других, не давали покоя.
Популярность Вертинского в зыбком тревожном мире того периода была огромна. Его песенка Пьеро – «Три юных пажа покидали навеки свой берег родной...» – вызывала слёзы даже у мужчин. Только глухой мог не услышать тональности грядущей эмиграции.
А для Вертинского, как и для многих других русских артистов, уже по существу началась эмигрантская жизнь, пусть пока ещё и на своей земле. Кстати, его песня о юнкерах стала своеобразным гимном офицеров армии Врангеля. Герой Перекопа генерал Слащев, ходивший в атаки, щёлкая семечки («пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам!»), говорил Вертинскому: «С вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать!» В декабре 1919 года Александр Вертинский надолго покидает Родину. А песню его поют и сегодня, чаще в память ребят, погибших в Афганистане.
«И несём в чужие страны чувство русское тоски»
Всю ночь ломаю руки
От ярости и муки
И людям что-то жалобно пою.
(«Жёлтый ангел»)
Турецкая земля, давшая приют беженцам из России... «Константинополь – довольно интересный город, только турок слишком много», – обменивались первыми впечатлениями эмигрировавшие дамы. Ещё мало кто представлял, какие испытания суждены изгнанникам. Ещё грела душу надежда на скорое возвращение на Родину. А неподалёку от Константинополя, в Галиполи, там, где когда-то стояли шатры крестоносцев, доживала свои последние дни Белая армия, брошенная союзниками на произвол судьбы. В ней ещё верили, что вернутся в Россию, к прежней жизни. То была вера обречённых.
В Турции Вертинский пробыл недолго (пение давало средства лишь на поддержание жизни, не более). Вскоре он уезжает в Румынию, точнее, в Бессарабию, где было много русских. С греческим паспортом, купленным за 100 лир на имя Александра Вертидеса, закурив последнюю сигарету из подаренных ему турецким султаном за выступление, Пьеро бросает прощальный взгляд на Босфор и бухту Золотого Рога.
В Бессарабии «ко мне тянулись сердца... Меня благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что приехал, за то, то привёз русское слово, что утешил, успокоил». В Бессарабии, граничащей с Россией, с Родиной, рождается его знаменитая «В степи молдаванской»:
А когда засыпают берёзы
И поляны отходят ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слёзы
Хоть взглянуть на родную страну.
Этой песней Вертинский прогневал румынское начальство: артиста обвинили в том, что он, дескать, большевик и ведёт пропаганду в пользу России, после чего ему было приказано немедленно покинуть Бессарабию.
В Румынии, слывшей тогда «страной смычка и отмычки», Вертинскому суждено было узнать, какова она, участь кабацкого развлекалы. На этом ломались и опускались на дно многие талантливые артисты. «...Независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь... И я пел. Сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, визги, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твёрдо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Я не искал успеха и не думал о нём. Я пел для мастерства, для практики».
Артист, истосковавшийся по настоящей работе, вырывается из Румынии и переезжает в Польшу, к которой он, по его словам, всегда испытывал какую-то нежность. Польша, страна, родственная России своим славянским языком, где неизменно с любовью и огромным интересом относились к российской культуре и ненавидели российские имперские амбиции. Здесь издавна царил культ женщины. Польские пани, прекрасные польские пани, томные и нежные, влюбчивые и коварные, кружили голову молодым и старым.
В Польше пан Верциньский, как его называли там, был принят, по его свидетельству, по-царски. Особенным успехом пользовалась песня «Пани Ирена». Он, тонкий ценитель и знаток женской красоты, посвятил её прекрасной, пленившей его сердце полячке:
Я влюблён в Ваши гордые польские руки,
В эту кровь голубых королей...
Вертинский – мастер красочных, точных и кратких, очень образных описаний городов и стран, а повидал он их на своём веку немало. Пел даже в Александрии, Бейруте и Палестине, снимался в кино в Африке. И если Польша для него представала в образе прекрасной пани Ирены: «И акцент Вашей польской изысканной речи, и ресниц утомлённых полёт...», то Германия запомнилась серой неотёсанной глыбой угловатых форм, в которой всё было расписано до мелочей: что можно, а чего нельзя, и где даже демонстранты, спасаясь от пуль полиции, не смеют пересечь газон, за которым – спасительная роща; и останавливаются в оцепенении, видя перед собой надпись: «Запрещено!».
.jpg)
Франция же, куда артист приехал из Германии, представилась ему в виде «кружева», сотканного узором из имён, творивших литературу, искусство, науку. Он полюбил эту страну. Его покорил Париж. Здесь артист прожил десять лет. Он сроднился с городом, где человеческая личность и её свобода – отнюдь не звуки пустые. «Объездив многие города Европы, побывав в Америке и других частях света, я до сих пор не знаю равного ему места на земле».
Вот несколько строк Вертинского о Париже того времени: «Жить, жить, жить! – кричали газеты, журналы, магазины, выставки. – Жить во что бы то ни стало. Ни в чём себе не отказывая».
Так и жил Париж. Бывшие россияне были его частью. И при всём том, хоть и не все, но многие эмигранты мучились ностальгией. Уехали в Россию Александр Куприн и Алексей Толстой. В сумасшедшем доме умирал Константин Бальмонт, в бреду призывавший родную землю... Тосковал по ней и Александр Вертинский.
«Там живут чужие города, и чужая радость и беда»
Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы!
Не нам, Бродягам и артистам.
(«Прощальный ужин»)
Карьера Вертинского во Франции складывалась успешно. Его признание в качестве большого артиста было бесспорно. Он выступал в лучших зрелищных центрах Парижа, где играли блестящие оркестры мира, выступали звёзды эстрады. «Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами... Все они знакомились со мной, потому что их интересовала русская песня, русская музыка», – писал Вертинский. Он не страдал избыточным тщеславием, но, согласитесь, любому артисту лестно, если ему внимают принц Уэльский и Густав Шведский, Ротшильды и Морганы, Чарли Чаплин и Марлен Дитрих...
Огромным успехом пользовались его концерты, естественно, и в среде русской эмиграции. Критик П. Пильский, попытавшийся проникнуть в тайну всеевропейской популярности Вертинского, писал: «Нет, это не только будуарное творчество. Это – интимные исповеди. Это – я; это – вы; это – мы все в наших жаждах ухода от повседневности, от будней, от опрощения жизни, и песни Вертинского не только театрально-интересны, не только эстетически ценны. А их автор – человек с нервным, чуть-чуть бледным лицом, в чёрном фраке, поющий о том немногом святом, что осталось в дремлющей душе многих».
Это было, было и прошло.
Всё прошло и вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло!..
А на родине о Вертинском писали со злобой. Впрочем, Бог с ними, писаками. Скажем о другом... Борис Балтер в своей светлой и грустной повести «До свидания, мальчики» рассказывает о том, как воспринимала песни Вертинского молодёжь страны Советов 30-х годов – «поколение обречённых», словами Александра Галича. С этими песнями знакомились благодаря пластинкам – их привозили контрабандой моряки дальнего плавания.
Его пели, хотя бы тайком, его хотелось слушать, мелодии Вертинского накрепко прикипали к сердцам в мире, где людям норовили вживить «вместо сердца пламенный мотор».
В октябре 1934 года артист плыл в Америку, оставляя Францию. Эпоха русского искусства в Париже завершалась. Ощущались предвестия войны в Испании. Близились «ревущие сороковые» Холодные политические ветры гнали эмигрантов за океан.
К мысу ль радости,
К скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц –
Всё равно, где бы мы ни причалили, –
Не поднять нам усталых ресниц.
(На слова Надежды Тэффи)
Вертинский с огромным успехом выступает в «Таун-холле». Овации нью-йоркской публики «рашен-крунеру», как и раньше аплодисменты парижан «шансонье-рюсс», приятно ложились на душу. Вертинский снимается в голливудских фильмах. Правда, так уж сложилось, что это «царство грёз» не смогло стать долгим пристанищем артиста. И ровно через год он покидает Америку. Впереди был неведомый Китай.
«Мы – осенние листья, нас бурей сорвало.
Нас всё гонят и гонят ветров табуны...
Кто же нас успокоит, бесконечно усталых,
Кто укажет нам путь в это царство весны?
(«Сумасшедший шарманщик»)
В Китае Вертинскому доведётся прожить почти восемь лет. Именно эта страна стала его последним пристанищем перед возвращением на родину, последней остановкой перед завершением одиссеи артиста. А тогда, в конце 1935 года, он заканчивал очередное утомительное путешествие. По-прежнему одинок, 45 лет, одолевают большие проблемы и мелкие, нудные бытовые заботы. Итак, Китай:
Над Жёлтой рекою незрячее белое небо,
Дрожат паруса, точно крылья расстрелянных птиц.
И коршун летит и, наверное, думает: «Где бы
Укрыться от этого зноя, от этой тоски без границ?»
(«Китай»)
В Китае было немало русских, бежавших сюда от ужасов гражданской войны. Особенно много эмигрантов осело в Харбине – по виду типичном российском провинциальном городе. Здесь стояли православные соборы, работали русскоязычные школы и институты, издавалось несколько газет на русском языке. Китайцы и русские жили дружно.
Появление Вертинского и здесь встретили восторженно. На первый его концерт почти невозможно было пробиться. В зрительном зале царила атмосфера большого национального праздника. Вот что сам Вертинский пишет о своих выступлениях перед тамошней русской эмиграцией: «К моим скромным концертам люди тянулись по разным причинам – одним просто нравились песни, других связывали сладкие воспоминания о былом благополучии, третьих притягивала та щемящая и ноющая тоска по Родине, которая пронизывала всё моё творчество... Моя органическая любовь к родной стране, облечённая в ясную и понятную для всех форму... ранила сладко и больно».
Каков он ко времени «китайского жития»? Что осталось от того давнишнего Пьеро? Вот воспоминания Натальи Ильиной о Вертинском зрелой поры: «Он покоряет образованностью... Он бесконечно добр и щедр, всегда готов прийти на помощь. Его можно не любить, но нельзя пройти мимо него равнодушно, ибо это исключительно интересная личность, соединяющая в себе затаённую грусть, неизменную готовность к иронии и возвышенную любовь к покинутой родине, чистую мечту о Возвращении».
Мысль о возвращении в Россию не покидала артиста никогда. Однако все его попытки и хлопоты неизменно кончались отказом верховных сочинителей лозунгов типа «Искусство принадлежит народу!»
Роковой 1941 год. Александр Николаевич мучится оторванностью от России того страшного времени:
Что мы можем? Слать врагу проклятья?
Из газет бессильно узнавать,
Как идут святые наши братья
За родную землю умирать?
Эти строки из его песни, которая так и называлась «Наше горе». Вертинский деятельно сотрудничает на радиостанции ТАСС «Голос Родины. В эфир несутся его песни. Основная тема его выступлений – неизбежность поражения фашизма.
В 1943 году Вертинскому наконец-то удаётся получить разрешение вернуться на родину. Он с женой, юной красавицей Лидочкой Вертинской – дочерью служащего КВЖД (их венчание в православном соборе Харбина состоялось в том же 1943 году), её матерью и недавно родившейся дочкой Марианной приезжает в СССР.
«И в моё забытое окно Ветер родины уже стучится».
.jpg)
1930-е годы. Париж
«Мы – птицы русские»
Всегда был за тех, кому горше и хуже.
Я всегда был за тех, кому жить тяжело.
А искусство моё, как мороз, даже лужи
Превращало порой в голубое стекло.
Александр Николаевич напрасно тревожился о том, как воспримут его искусство соотечественники, выступать перед которыми он долгие годы был лишён возможности. По возвращении на родину Вертинский получает множество предложений. Сбор от концертов он нередко передавал в фонд обороны, в фонд помощи детям погибших воинов.
Война осталась позади. Прсле мая 45-го «на Вертинского» шли с новым, особым настроением. «Из боли страшных утрат военных лет, из тягот послевоенного быта рождалась острейшая потребность в лирике, в романтической поэзии, в красоте и радости...» – писал К. Рудницкий, исследователь творчества Вертинского.
И всегда-то не жаловавшие Вертинского «верхи» оставались к нему настороженными. А что же артист? Его не могло не удручать, не раздражать очень многое. «Насколько вкусы и требования нашего народа выше того, что им даётся ежедневно по радио... – ежедневное «пойло» – советские композиторы, хоры, неграмотная самодеятельность и «патологические» частушки, исполняемые особым «внематочным» голосом», – в такие вот слова выливалось отношение Александра Николаевича к советскому музыкальному эфиру.
Его искусство было и оставалось интимно, человечно, искренно. Его песни напоминали о том, что вытравлялось из людей, о том, как сложен и противоречив и этим прекрасен особый мир каждого человека. Песни Вертинского спорили со сталинской теорией «винтиков и колёсиков».
Кстати, о якобы «благожелательном» отношении Сталина к Вертинскому. Молва приписывала Хозяину якобы поклонение творчеству артиста. Она же разносила слова: «Пусть допоёт», будто бы милостиво брошенная Кремлёвским горцем в период, когда Жданов и иже с ним блюстители совмуз хотели расправиться с Вертинским, как расправились с Ахматовой и Зощенко.
Вертинского не тронули, больше того, в 1951 году он стал лауреатом Сталинской премии. Что это? Булат Окуджава, считающий Вертинского своим Учителем, по этому поводу высказался вполне определённо. Суть его суждений сводилась к тому, что у Пахана психика и восприятие мира были паханными, то бишь уголовными. Покровительственный жест в отношении артиста случился не ради спасения таланта и творчества Вертинского, а вызван лишь желанием щёлкнуть по носу, цыкнуть на Жданова со приспешниками. Дескать, знай своё место, холоп; сам разберусь – кого казнить, кого миловать.
А вот отношение Александра Николаевича к Сталину и сталинщине: «Всё фальшиво, подло, неверно. Всё – борьба за власть одного сумасшедшего маньяка... Семнадцать миллионов людей утопили в крови... Кто, когда и чем заплатит нам – русским людям и патриотам – за «ошибки» всей этой сволочи? И доколе они будут измываться над нашей Родиной?»
Да и премирован-то артист был вовсе не за концертную деятельность, а за исполнение (отметим, талантливейшее) роли кардинала в киноагитке «Заговор обречённых» о «происках поджигателей войны». Вообще надо сказать, что Вертинский снимался довольно много, хотя и в небольших ролях советского кино. Достаточно назвать такие его роли, как дож Венеции («Великий воин Албании Скандербег»), лорд Гамильтон («Адмирал Ушаков»), князь («Анна на шее») и другие. И всё же песне отдавалось неизмеримо больше времени и сил.
А сама эта песня продолжала оставаться в каком-то двойственном положении. Принятая «снизу», она как бы пребывала не вернувшейся из-за границы для «верхов». Газеты как в рот воды набрали. И у советской грамзаписи – самой грамзаписывающей в мире, разумеется, Вертинский тоже не в чести: ни единой пластинки. На Западе Вертинского выпускали примерно по миллиону пластинок в год, в СССР же торговали ими из-под полы на базарах. Вертинского можно было хвалить в узком кругу, но в официальных сферах – упаси Боже!
Вертинский в СССР и... Вертинского нет? В 1956 году он писал тогдашнему заместителю министра культуры Кафтанову: «...А между тем я есть! И очень есть! Меня любит народ (Простите мне эту смелость!)... Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. ...Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Я, собственно, ничего у Вас не прошу... У меня останется горький осадок. Меня любил народ и не заметили его правители».
.jpg)
Артист не просил ничего у власти, ибо хорошо представлял, что за люди «ведают» культурой, духовностью его страны: «Что понимают в искусстве эти люди, которые представляют собой партию?
Боюсь, что ничего... Они застроили Москву безвкусными архитектурными домами. Выхолостили всех своих поэтов, заставив их писать «по делу» и отняв у поэзии самое главное – её свободу и «святую бесцельность». Бескорыстную бесцельность. И во всё сунули свой нос! Они обуздали гениального Шостаковича, обвинили в «формализме» и задушили живопись и теперь делают из Шекспира «рыбные котлеты» в консервах. С экрана выглядывает всё тот же «собирательный», выдуманный тип «советского» человечка, которого пока ещё нет и которого так мучительно мечтает родить партия!»
Утомительные гастрольные поездки с их неизбежными неурядицами, плохо устроенный быт скверных гостиниц, изматывающие долгие железнодорожные и иные переезды – всё это подтачивало здоровье уже немолодого человека. Он стал привычно воспринимать сердечную боль, необходимость лекарств. По здравому смыслу, надо было бы отказаться от гастролей, благо материальных стеснений не было. Но замкнуться в мире стариковского быта, дачной благоустроенности он просто не мог. Хотя к семье своей – жене и двум дочкам Марианне и Настеньке – «ангелочкам моим божьим» – был привязан неизменно трогательно и нежно.
Как бы там ни было, только Песня способна распоряжаться Артистом абсолютно.
В мае 1957 года Александра Николаевича Вертинского не стало. Советские газеты о его кончине не сообщали.
Статья имеет основанием материалы книг А. Н. Вертинского «Дорогой длинною...» и В. А. Бабенко «Артист Александр Вертинский».
Владимир Фёдоров. Консультант Кира Виноградова
***
1 – Вертинский годы спустя вспоминал: «Но как же родился Пьеро? Да очень просто, проще, чем это думают. Я был молод, был застенчив, боялся смотреть в лицо многоликому страшному зверю – публике, и я скрылся под маской и костюмом печального Пьеро».
Ещё в главе «Мышление - вера - нравственность»:
«И с тихой песнею вхожу в сердца людей». Александр Николаевич Вертинский (1889–1957)
