...до конца света
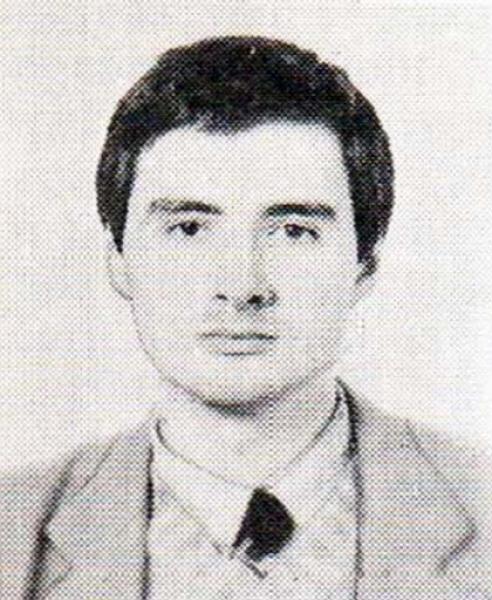
На человеке страна держится, говорят. Нет, говорили. Сейчас некогда – такое время. Сейчас как-то не до этого.
Печалимся о нашем нынешнем унылом бытье. В неизбежных очередях за самым необходимым. В сумеречной толкотне битком набитых «Икарусов». На площадях, заваленных мусором с последнего (впрочем, едва ли) митинга. Печалимся о своей неустроенности и верим по привычке: будет иной строй – социальный ли, ещё ль какой, не слева направо, а наоборот как-нибудь – и заживём. Потом. А сегодня – разве это жизнь?.. Слово одно – ?
Слова этого мы свидетели.
«Конец света! Погибла Россия!» – несётся с одной стороны. «Россия возрождается!» – с другой. Кто прав? Кто нет? – так ли важно? На человеке страна держится, и Россия не умирала в тех, кто жил её светом. Возрождается в тех, кто – некогда – забыл о ней и ныне возвращается в её настоящее, новый день завтрашнего будущего. Страна такова, каковы мы.
...В усобицах пало наше Отечество. Брат встал на брата, сын на отца. Немецкие полки, пройдя Прибалтику, вышли к Пскову. С калейдоскопической быстротой в Киеве один суверен сменял другого. Неспокойно на Галичине и в Венгрии. Поволжье разорено и сожжено. Голод в Новгороде. Тревожное ожидание на южных рубежах. Кровавые стяги над ратями. Несжатые нивы, поля в запустении: властители чужое добро делят – «Се мое, и се мое же». Смутные времена. Русь входила в XIII век.
Разорения 37-го... 40-й, 42-й годы. От стотысячного Киева осталось двести дворов... Батыево нашествие остудило несколько страсти, обратив в пепел города, людей – в рабов.
Трудно поднималась Россия. Поднималась из купленного кровью и лестью покоя московских пределов, куда с юга, не стерпев насилия, потянулись толпы беженцев. Из новопостроенного Успенского собора ещё деревянного Кремля, где при любезном Орде Иване Калите обосновались митрополиты всея Руси. Поднималась из памяти людской.
Тогда-то, почти одновременно, произошло три знаменательных события: инок Богоявленского московского монастыря Алексий вызван был на церковно-административное поприще в должности митрополичьего наместника; 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергий Радонежский поставил в дремучем лесу келию и маленькую церковь, а в Двинской земле, городе Устюге, окружённом отовсюду поселениями зырян, у причётчика собора святой Богородицы Симеона и его жены Марии родился сын, которому, по преданию, было предсказано стать святителем.
.jpg)
Святой Стефан был назван Пермским по краю его подвижнических трудов среди пермяков, зырян. Благословение на поодвиг просвещения он получил скорее всего от св. Алексия. В дорогу двинулся году в 1378 или 79-ом
«Эта присноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарёй политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и желал иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в Житии преподобного Сергия о проезде св. Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком вёрст обменялись братскими поклонами». (1)
В них сошлись три основные части Руси: Алексий, сын черниговского боярина-переселенца, энергичный дипломат и мудрый советчик великих князей московских; Сергий, сын ростовского боярина-переселенца, великий подвижник, мистик и политик, духовный строитель и аскет; и представитель русско-финского севера – Стефан, просветитель язычников.
«Един инок уединенный...»
Стефан Пермский занимает особое место среди русских святых. Пожалуй, именно в нём наиболее ясно, незамутнённо другими привходящими соображениями явлена та всемирная отзывчивость русской души, о которой столько говорено-переговорено за последние два века, тот дух всеприимства, который распространил Россию на тысячи вёрст на север и юг, увёл за Камень, за Урал, к Великому океану, да и, наверное, в космос призвал.
Ни год рождения, ни даже мирское имя Стефана нам неизвестны. Был он «родом русин, от языка словенска, – повествует его агиограф Епифаний Премудрый. – И детищем вдан бысть грамоте учити, вскоре извыче всю грамоту, превзыде паче многих сверстник и быстростию мысли превосходя».
Под влиянием Священного Писания отрок решает принять монашеский чин в ростовском монастыре святого Григория Богослова. Выбор места пострига не был случаен: «яко книги многи бяху ту». В затворе, славном сгрогостию устава и богатой библиотекой на славянском и греческом языках, нашлись люди, способные обучить юношу грамоте и премудрости эллинской. Встречая такого знающего человека, Стефан, как свидетельствует Житие, делался его «совопросником и собеседником».
Позже Епифаний (один из таких совопросников) попросит у уже причисленного к лику святых Стефана прощения за то, «что был ему досадителем, препирался с ним о каком-нибудь слове, или стихе, или строке».
Человек, родившийся в «медвежьем углу», на краю ойкумены, в тёмные века, вдруг становится изысканным эллинистом, в подлиннике читает и толкует античных философов и отцов церкви – редкость для Московской Руси. Но странно – Стефан практически не оставил нам своих произведений, его служение состояло в ином.
Для нашего времени совершенно непонятно, что влекло этого человека в пермские леса, к чужим племенам. Отправляясь к зырянам, он явно не стремился, как впоследствии представлялось многим, к их обрусению или к передаче под княжескую руку. Да и кому передавать, если сама Двинская земля всё ещё колебалась, к кому склониться: к Москве или Господину Великому Новгороду?
Помысел стать просветителем язычников пришёл к Стефану, по всей вероятности, ещё в Устюге. Тогда же, предположительно, он выучил или начал учить «пермский» язык. Но для исполнения своего намерения необходимо было получить благословение начальства и стать иеромонахом (только в этом случае по каноническим правилам дозволялось крестить обращаемых и вводить у них богослужение).
Другая сложность – Стефан задумал не только проповедовать, но и служить в церкви на родном языке зырян, что было совсем уж непонятно. Вспомним, что до конца седьмого тысячелетия от сотворения мира оставалось чуть больше ста лет, а значит, по церковному преданию, через столетие должен был состояться конец света, второе пришествие Христа и Страшный Суд.
.jpg)
Стефан не только проповедовал, но и служил в церкви на родном языке зырян. На основе рунических знаков, привычных глазу и духу аборигенов, им был создан новый алфавит, переписаны основные тексты Священного Писания. Его хлопотами на месте прежних языческих кумирен были воздвигнуты две церкви. В 1383 году Стефан был посвящён в епископы зырянские и ещё 14 лет, по самую смерть, служил в Пермской земле. Автор фото: М. Дмитриев, из серии «Русь уходящая»
Современники святителя не могли понять, зачем нужно было переводить Священное Писание на «варварский язык» (что само по себе сложнейшая лингвистическая и богословская задача), когда можно было бы ограничиться лишь комментариями к славянскому тексту (не так ли принимали христианство на латыни европейцы). Не понятно было и то, как записывать перевод: зыряне не имели своей азбуки, были руны, «четы и резы», но для поставленной задачи требовалось нечто иное.
Стефан, прежде чем отправиться в путь, создал на основе рунических знаков, привычных глазу и духу пермяков, новый алфавит (что впоследствии облегчило усвоение и распространение грамоты и богослужебных книг), переписал в новой графике основные тексты Священного Писания.
Благословение на подвиг просвещения Стефан получил скорее всего от св. Алексия, но двинуться в дорогу пришлось уже после кончины митрополита, году в 1378 или 79-ом.
Епископ Пермский
Едва ли Стефан рассчитывал на дружеский приём: зыряне были данниками русских. Однако выбирать не приходилось.
Прибытие устюжского проповедника прямо в стольное стойбище Усть-Вымь, конечно, ошеломило местных жителей, но напасть первыми на него они не решились. Впрочем, при каждом удобном случае старались выжить: являлись под предводительством волхвов с копьями и кольями, обкладывали избушку хворостом и грозились сжечь незваного гостя заживо. «Но, – как они сами говорили, – хитрый человек этот Стефан, никак первый не начнёт боя, вот если бы начал...»
Между тем слушать русского гостя не очень-то и запретишь, постепенно появились первые обращённые. Стефан построил на холме прямо напротив капища великолепную деревянную церковь. И как во время оно красота греческой службы свидетельствовала Владимиру-первокрестителю истину православия, так и эта усть-вымская церковка влекла к себе всё новых и новых пермяков. Но ещё больше, по словам Жития, привлекали людей кротость и добросердечие русского. Но труден был выбор.
Житие рассказывает о самом драматическом эпизоде в жизни Стефана. Волхв Пам, отстаивая свою веру, говорил, что, во-первых, «у христиан един Бог, а у нас мнози», больше богов – больше защитников.
Во-вторых, «у нас един человек исходит на брань с медведем», а у христиан по сто, и то случается без добычи возвращаться. А в-третьих, «вести у нас вскоре бывают», что ни произойдёт «на дальней стороне, на девятой земле», тотчас шаману и ведомо. А для вящей убедительности предложил Пам «испытание вер»: пройти сквозь горящую избу и в реке подо льдом добраться от одной полыньи до другой.
Христианин, как знал волхв, не умел заговаривать воду и огонь и должен был бы отказаться. Но вызов был принят. Когда же святитель взял колдуна за руку, чтобы вместе войти в пламя, тот испугался: «Аз не навыкох...» Пермяки, как водится, хотели тут же убить побеждённого вождя, но Стефан не допустил до греха. Волхва изгнали из племени.
Вскоре на месте прежних кумирен выросли две новые церкви. В 1383 уже году Стефан был посвящён в епископы зырянские и ещё 14 лет, по самую смерть, служил в Пермской земле: крестил, строил по погостам и весям новые храмы, основал монастырские хозяйства и училище для подготовки местных священников и грамотеев-учителей, завершал перевод Священного Писания. Он и его преемники защищали малый числом народ от врагов: ходили, увещевали и язычников-вогулов, и разбойничью вольницу новгородских и вятских ушкуйников, «охотников за зипунами». В неурожай Стефан закупал в Вологде и раздавал голодающей пастве хлеба.
Год 6904-й – год 7500-й (2)
Так и остаётся он загадкой для расчётливого нашего современника. Что вело его? Зачем идти к «диким», когда своя-то родная земля томится под Ордой?
Одни объясняют подвиг святителя и его последователей желанием «русифицировать» окраины государства. Но ведь Стефан создавал именно национальную зырянскую церковь. В пермяках видел он, по словам Епифания, «работников одиннадцатого часа», призванных в конце времён к Богу вместе со славянским родом.
Нестор, рассуждая о достоинстве славянской азбуки как творения святых Кирилла и Мефодия, имел тайную цель показать особость, самостийность Руси от византийских патриархов. Епифаний, говоря о пермской грамоте, созданной Стефаном, развивает те идеи в идею всемирности служения Руси. Не в «державстве», не в захватах чужого определяет себя страна, но в открытости, отзывчивости к иному, в сострадании...
Это ещё не славянофилы, не Владимир Соловьёв, не Георгий Федотов. В день кончины святителя в Москве стояла весна 6904 года от сотворения мира. Менее года прошло с той поры, когда победитель Золотой Орды Тамерлан (помните верещагинский «Апофеоз войны»?), не дойдя до Москвы нескольких десятков вёрст, вдруг нежданно-негаданно повернул восвояси. 4 года как Тохтамыш «подарил» Нижний Новгород с Суздалем великому князю московскому, сыну Дмитрия Донского, будто в компенсацию за давнишний погром белокаменной. Уже пятый год как оставил земную юдоль Сергий Радонежский. Да и много чего ещё было... И чего будет. Доброго и злого, странного для современников, непонятного для нас, сегодняшних.
Но то, что просветитель чужого народа стал почти сразу по смерти русским святым, едва ли удивительно было. Не только и не столько с мечом вставала, поднималась Россия. «Не в силе Бог, но в правде». И на Куликовом поле в русских ратях плечом к плечу с москвичами, новгородцами, владимирцами бились с Мамаем и литовские княжичи и бояре, и крещёные татарские воины. Это тогда для молодой России не казалось странным. С тем она и выстояла. На человеке стоит страна. На живущей в нём правде. На памяти о добрых деяниях, ставших лучшими памятниками культуры.
Хорошо бы в смутные лета не забывать о них, об их времени – нашей истории. Ведь настоящее – последний день прошлого, и без чувства времени, памяти человек обречён провалиться в смерть, безвременье, в некогда.
***
1 – В. О. Ключевский, Значение преподобного Сергия для русского народа и государства
2 – Или 1396-1992 годы от Рождества Христова
Ещё в главе «Мышление - вера - нравственность»:
...до конца света
