Апология России, или Больше обманывать себя нечего
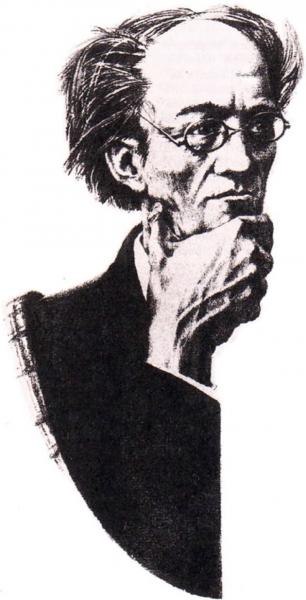
Моё письмо не будет заключать в себе апологии России. Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял её до сих пор вполне успешно. Истинный защитник России – это история; ею в течение трёх столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу...
Ф. И. Тютчев «Россия и Германия»
(Письмо доктору Густаву Кольбу...), 1844
КРЫМСКАЯ ВОЙНА – ИСТОРИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
Бьюсь об заклад, что в день Страшного суда в Петербурге найдутся люди, которые станут притворяться, что они об этом и не подозревают. Вот, впрочем, что кажется достоверным: князем Горчаковым только что получено от Турции требование очистить княжества в кратчайший срок. Это было бы, конечно, очень смешно, если бы не являлось началом событий столь важных и столь роковых, что никому из живущих ныне не охватить умом ни значения их, ни размаха...
Здесь, – в салонах, разумеется, – беспечность, равнодушие и косность умов феноменальны, можно сказать, что эти люди так же способны судить о событиях, готовящихся потрясти мир, как мухи на борту трёхпалубного корабля могут судить об его качке... (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербруг. Суббота. 3/15 октября 1853.) ... Я был одним из первых и из самых первых видевших приближение и рост этого страшного кризиса, – и теперь, когда он наступил и готовится охватить весь мир, чтобы перемолоть и преобразовать его, я не могу представить себе, что всё это происходит на самом деле и что мы все без исключения не являемся жертвой некой ужасной галлюцинации.
Ибо – больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однакож, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти.
И вызвано это столкновение не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой гнусностью Франции, воплотившейся в авантюристе, и даже не немцами, а чем-то более общим и роковым. Это – вечный антагонизм между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: Запад и Восток. – Теперь, если бы Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы... (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. 24 февраля / 8 марта 1854.)
...Мы приближаемся к одной из тех исторических катастроф, которые запоминаются навеки. (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. 10/22 марта 1854.)
Всё, что он (Виельгорский. – Ред.) мне рассказал о положении дел, всё, что я вывел из его речей и рассуждений о направлении умов в министерстве, а может быть, даже и выше, – вся эта подлость, глупость, низость и нелепость, – всё это возмущает душу более, чем способно выразить человеческое слово...
Знаешь ли ты, что мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции? (Э. Ф. Тютчевой. Москва. 9 июня 1854.)
Правда, ничто из того, что происходит, не должно меня удивлять – до такой степени совершающиеся действия точно соответствуют моему давнишнему представлению о действующих лицах... Но страшная действительность и не думает о том, видят её или нет. Ей достаточно того, что она существует... Она есть, она идёт, она наступает. И мы ещё далеко не коснулись самой сути того положения, какое она нам приготовила.
И, однако, когда на петергофском молу, смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, за этой светящейся мглой, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит самый могущественно снаряжённый флот, когда-либо появлявшийся на морях, что это весь Запад пришёл высказать своё отрицание России и преградить ей путь к будущему, – я глубоко почувствовал, что всё меня окружающее, как и я сам, принимает участие в одном из самых торжественных моментов истории мира. (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. Суббота. 19 июня 1854.)
.jpg)
Император Николай I, султан турецкий Абдул-Меджит, королева Англии Виктория, король Франции Луи Наполеон. Народная картинка. 1-я половина XIX в.
...Если бы я не был так нищ, с каким «наслаждением» я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. Пятница. 23 июля 1854.)
Я никогда не обманывался насчёт беспримерной посредственности этих двадцати двух людей, но самая эта посредственность меня и ободряла. Я глупо надеялся, что Бог, которому я приписывал мои личные предпочтения, не допустит, чтобы эти люди были серьёзно подвергнуты испытанию. Он допустил это, и теперь, несмотря на огромное значение вопроса, невозможно присутствовать без отвращения при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодяями.
И, однако, вопреки и наперекор тому, что происходит и метется в тайниках наших душ, банальная жизнь, жизнь внешняя идёт своим чередом. (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург 27 июля 1854.)
Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребённый, который внезапно приходит в себя. Но, к несчастью, мне даже не надо приходить в себя, ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу, – к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и всё это недомыслие. (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. Среда. 18 августа 1854.)
Понимают ли, что сбились с пути, ибо завязли. Но где началось уклонение? с каких пор? как вернуться на правильный путь? и где он, каков он, этот правильный путь, – вот, конечно, чего люди не в силах угадать. Да иначе и не может быть. Тот род цивилизации, который привили этой несчастной стране, роковым образом привёл к двум последствиям: извращению инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка.
Повторяю, это относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, к публике, – ибо жизнь народная, жизнь историческая ещё не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьёт, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же для меня ясно, что мы ещё на пороге разочарований и унижений всякого рода. (Э. Ф. Тютчевой. Москва. Вторник. 30 ноября 1854.)
Одним словом, несмотря на истинные чудеса храбрости, самопожертвования и т. д., нас постоянно оттесняют, и даже в будущем трудно предвидеть какой-нибудь счастливый оборот. Совсем напротив. По-видимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, оказалось и в нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела и ограничения – ничто не было пощажено, всё подверглось этому давлению, и все отупели. (Э. Ф. Тютчевой.«С.-Петербург. Суббота. 21 мая 1855.)
Мне пригрезилось, что настоящая минута давно миновала, что протекло полвека и более, что начинающаяся теперь великая борьба, пройдя сквозь целый цикл безмерных превратностей, захватив и раздробив в своём изменчивом движении государства и поколения, наконец закончена, что новый мир возник из неё, что будущность народов определилась на многие столетия, что всякая неуверенность исчезла, что суд Божий совершился.
Великая империя основана... Она начинала своё бесконечное существование там, в краях иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря. Новые поколения с совсем иными воззрениями и убеждениями господствовали над миром и, уверенные в достигнутых успехах, едва помнили о тех печалях, о той тоске и тёмной ограниченности, в которой мы живём теперь.
И тогда вся эта сцена в Кремле, при которой я присутствовал, эта толпа, столь мало сознававшая, что должно совершиться в будущем, и теснившаяся, чтобы увидеть государя (Александра II. – Ред.), который так недолго просуществует и жизнь которого так скоро будет подорвана и поглощена при первых же испытаниях великой борьбы, – вся эта картина показалась мне видением прошлого и весьма далёкого прошлого, а люди, двигавшиеся вокруг меня, давно исчезнувшими из этого мира... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков. (Э. Ф. Тютчевой. Москва. Пятница. 9 сентября 1855.)
Известия, полученные с тех пор, раскрыли перед тобой всё значение севастопольской катастрофы... О да, ты вполне права, – наш ум, наш бедный человеческий ум захлёбывается и тонет в потоках крови, по-видимому, – по крайней мере так кажется, – столь бесполезно пролитой...
И это ужасное бедствие, вероятно, только исходная точка, первое звено целой цепи ещё более страшных бедствий...
Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека (Николая I. – Ред.), который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и всё упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. ...Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нём заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие.
Нет, конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России, – и именно потому, что это отклонение началось в столь отдалённом прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями. (Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. Суббота. 17 сентября 1855.)
В истории человеческих обществ существует роковой закон, котороый почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых...
Только намеренно закрывая глаза на очевидность, можно не замечать того, что власть в России – такая, какою её образовало её собственное прошедшее своим полным разрывом со страной и её историческим прошлым, что эта власть не признаёт и не допускает иного права, кроме своего, что это право – не в обиду будь сказано официальной формуле – исходит не от Бога, а от материальной силы самой власти, что эта сила узаконена в её глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещённости.
...Одним словом, власть в России на деле безбожна, ибо неминуемо становишься безбожным, если не признаёшь существования живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права, которое по большей части есть не что иное, как скрытый произвол. В особенности грустно и безнадёжно в настоящем положении то, что у нас всё общество – я говорю об обществе привилегированном и официальном – благодаря направлению, усвоенному им в течение нескольких поколений, не имеет и не может иметь другого катехизиса, кроме катехизиса самой власти. (А. Д. Блудовой. С.-Петербург. Суббота. 28 сентября 1857.)
.jpg)
Николай I. Автолитография Г. Митрейтера
КОРЕНЬ НАШЕГО МЫШЛЕНИЯ
Провидение, действуя как великий артист, готовит нам тут один из самых поразительных театральных эффектов... (А. Ф. Аксаковой. С.-Петербург. Среда. 21 июня 1867.)
Сталкиваясь с подобным положением вещей, буквально чувствуешь, что не хватает дыхания, что разум угасает. Почему имеет место такая нелепость? Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего собственного, кстати очень невысокого, уровня, эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, а обстоятельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать?
Это страшная проблема, и разрешение её, истинное и в полной мере разумное, боюсь, находится вне наших самых пространных рассуждений. Есть одно несомненное обстоятельство, но до сих пор оно ещё недостаточно исследовано... Оно заключается в том, что паразитические элементы органически присущи святой Руси... Это нечто такое в организме, что существует за его счёт, но при этом живёт своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своём пагубно разрушительном действии. И это происходит не только вследствие недоразумения, невежества, глупости, неправильного понимания или суждения. Корень этого явления глубже и ещё неизвестно, докуда он доходит.
Однако довольно. Мозг мой утомлён, и я ощущаю умственную тошноту, когда касаюсь этих предметов. (А. Ф. Аксаковой. С.-Петербург. 20 апреля 1868.)
...Да, Dummheit – вот она роковая сила, которая в данную минуту заведывает нашими судьбами, но не одно личное скудоумие, а воспитанное, так сказать, и завершающее собою целое вековое ложное направление.
И достаточно будет одного спокойного изложения вашего учения об основных началах русского общества, чтобы выставить его во всём его осязательном безобразии всё это немыслимое тупоумие, подвизавшееся противу него во имя консерватизма... (И. С. Аксакову. С.-Петербург. Понедельник. 18 ноября 1868.)
Бесполезно было бы строить какие-либо предположения о дальнейшем, когда подобное скудоумие сталкивается со столь гигантсткими событиями. Основной реакцией по-прежнему остаётся зуд, старческий зуд заурядности, которую раздражает всё, что ей непонятно, и которой любая независимая сила, как нечто её превосходящее, кажется не только подозрительной, но и враждебной.
У подобных людей страстное желание власти бессильно, как желание евнуха. (А. Ф. Аксаковой. С.-Петербург. 13 октября 1870.)
Однако, в конце концов, что же означает всё это всеобщее скудоумие, ведь оно не могло бы наступить, если бы не стёрлись определённые нравственные понятия. Что здесь причина и что следствие? Или, быть может, следует признать, что всё происходит от присущей нам как племени обыкновенной отсталости? Но в этом случае нельзя было бы без глубокой грусти думать о самом ближайшем будущем, ибо пришлось бы признать, что место, занимаемое нами в мире, совершенно случайно, что оно никак не оправдано, что мы его не заслуживаем и что Высшая Справедливость, расставляющая факты и события по их значению, не замедлит поставить нас на подобающее нам место.
Одним словом, пришлось бы признать, что справедливым в отношении нас оказывается, таким образом, зарубежное мнение. Может быть, подсознательным ощущением этого и объясняется всеобщая низость. (А. Ф. Аксаковой. С.-Петербург. 7 декабря 1870.)
...Корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца. В современном настроении преобладающим аккордом – это принцип личности, доведённой до какого-то болезненного неистовства. – Вот чем мы все заражены, все без исключения, и вот откуда идёт это повсеместное отрицание Власти, в каком бы то виде ни было. Для личного произвола нет другого зла, кроме Власти, воплощающей какой-либо принцип, отделяющей его, и вот почему блаженни нигилисты, тии бо наследят землю до поры до времени и пр. и пр. (И. С. Аксакову. С.-Петербург. 7 мая 1871.)
.jpg)
Петербург. Нарвские ворота. Сухопутный пароход из Ораниенбаума. Литография И. Селезнёва
Любая власть, которая за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, тем самым превращается в самого ужасного пособника Отрицания и Революционного ниспровежения, но она начинает осознавать это лишь тогда, когда зло уже непоправимо. (А. Ф. Аксаковой. С.-Петербург. 4 января 1872.)
Современное русское общество – одно из самых бесцветных, самых заурядных в умственном и нравственном отношении среди тех, что когда-либо появлялись на мировой арене, а заурядности не свойственно чем-либо живо интересоваться. Там, где нет стремлений, даже зло мельчает. Быть может, мы ещё дойдём до того, что будем с грустью впоминать о бреднях нигилизма... (А. Ф. Аксаковой. С.-Петербург. 28 сентября 1872.)
ВЫСЕКАТЬ ОГОНЬ ИЗ КУСКА МЫЛА...
Тютчев говорил: «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело». Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев пишет жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины».
Про канцлера Горчакова Тютчев говорит: «Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. Сливки у него на дне, молоко на поверхности».
Однажды осенью, сообщая, что светский Петербург очень ещё безлюден, Тютчев пишет: «Вернувшиеся из-за границы почти так же редки и малоосязаемы, как выходцы с того света, и, признаюсь, нельзя по совести обвинять тех, кто не возвращается, так как хотелось бы быть в их числе».
По поводу политического адреса Московской городской думы (1869 г.), направленного на высочайшее имя, он пишет: «Всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны стараниям высекать огонь из куска мыла...» По поводу сановников, близких императору Николаю I, оставшихся у власти и при Александре II, Ф. И. Тютчев сказал однажды, что они напоминают ему «волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших ещё некоторое время после их погребения в могиле».
Печатается по:
1. Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2-х тт. М., Правда, 1980.
2. Литературное наследство – М., Наука, 1988, т. 97. Ф. И. Тютчев, Кн. 1.
3. Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. – М., 1922
Фёдор Тютчев
Подбор и композиция отрывков
«Специально для «Социума» – Семёна Экштута
Ещё в главе «Просвещение - личность - общество»:
В складках Левиафана. Флотоводец Корнилов на фоне эпохи
Апология России, или Больше обманывать себя нечего
